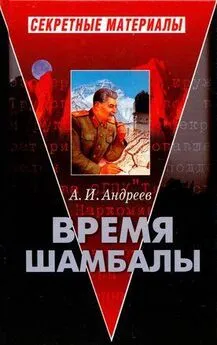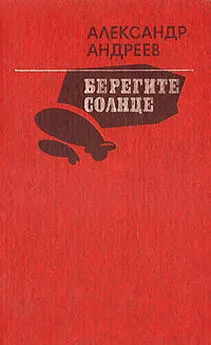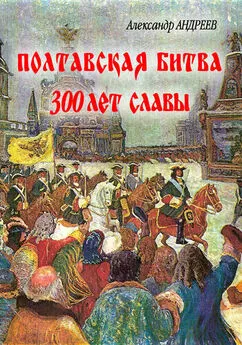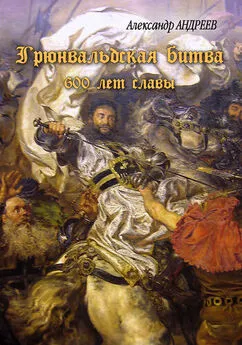Александр Андреев - Время Шамбалы
- Название:Время Шамбалы
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Издательский Дом «Нева»
- Год:2004
- Город:Санкт-Петербург
- ISBN:5-7654-3442-8
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Александр Андреев - Время Шамбалы краткое содержание
1920-е годы — начало эпохи созидания новой, коммунистической России, время великого энтузиазма и самоотречения, поисков новых путей в науке и культуре. Эта книга повествует о людях и событиях того времени. Первая ее часть посвящена А. В. Барченко — литератору, ученому-парапсихологу и оккультисту, основателю эзотерического кружка «Единое Трудовое Братство» в Петрограде и руководителю секретной лаборатории, курировавшейся Спецотделом ОГПУ. В книге рассказывается о научной работе Барченко, его экспедициях в заповедные уголки России, а также о его попытках, при поддержке руководства ОГПУ, совершить путешествие в Тибет для установления контактов с духовными вождями Шамбалы — хранителями совершенной «Древней науки», чтобы побудить их передать свой опыт и знания коммунистическим вождям.
Вторая часть книги содержит рассказ об усилиях большевистской дипломатии завязать дружеские отношения с правителем Тибета Далай-Ламой с целью распространения советского влияния в регионе. Из нее читатель узнает о секретных тибетских экспедициях Наркоминдела и о загадочном посольстве к Далай-Ламе русского художника и мистика Н. К. Рериха.
Время Шамбалы - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Главный итог беспрецедентной буддийской миссии для Н. К. Рериха — полное разочарование в Тибете как духовной метрополии Северного буддизма и «удаление» с его территории священного Гималайского Братства. А также разочарование Москвой, не принявшей судьбоносных предначертаний махатм. В 1929 г. Рерих утратил свои концессионные права в СССР, однако не отказался от идеи строительства «Новой Страны». Правда, ему пришлось перенести сроки наступления золотого века Шамбалы с 1927 на 1936 г., но теперь для осуществления Великого Плана он будет искать покровительства и поддержки другой великой державы Запада — Соединенных Штатов Америки.
7. Последние попытки привлечь Далай-ламу на советскую сторону
Неудача, постигшая в 1927 г. обе Тибетские миссии — Гомбодчийна-Чапчаева и Рериха, — как кажется, ничуть не обескуражила советских руководителей. В следующем году Москва наметила еще одну акцию по оказанию воздействия на несговорчивого Далай Ламу с помощью лояльных режиму лам-обновленцев, последователей реформаторского (обновленческого) движения бурятского и калмыцкого духовенства. Составленная из них делегация под руководством главы бурятской буддийской церкви бандида хамбо-ламы Данжи Мункужапова намеревалась отправиться в Лхасу в октябре 1928 г., после проведения очередных буддийских соборов в Калмыкии (в июле) и в Бурят-Монголии (в августе), имея на руках соответствующие их постановления. Идея посещения Лхасы советской религиозной миссией по сути принадлежала самим буддистам — лидерам обновленцев А. Доржиеву и Ш. Тепкину, впервые высказавшим ее еще в начале-1927 г. в связи с состоявшимся в Москве 1-м Всесоюзным Буддийским Собором. Правда, оба они, втайне от советских властей, связывали с этим визитом совсем иные надежды. Вот как об этом впоследствии рассказывал Ш. Тепкин: «В 1927 г. после Всесоюзного Собора буддистов в Москве, решением которого было ограничение возрастной нормы при приеме в духовенство — с 18 лет, а не с 7 лет, как это было до этого, мы подняли вопрос о посылке делегации в Тибет к Далай-Ламе для религиозной связи. Ставя формально этот вопрос перед НКИД таким образом, что делегация наряду с установлением религиозной связи с Далай-Ламой будет информировать последнего о свободе и процветании буддийской религии при Советской власти, что было отмечено в обращении, принятом Собором, фактически же мы имели в виду еще тогда рассказать Далай Ламе о начавшемся нажиме Советской власти на нашу религию, и как результат этого нажима — ограничение нормы для духовенства. НКИД тогда дал согласие на посылку делегации в Тибет, в связи с чем как в Бурятии, так и в Калмобласти проводилась большая подготовительная работа, собирались средства, была закуплена парча для подарков и т. д.» [493].
Это свидетельство Ш. Тепкина красноречиво говорит о том, что обновленцы перестали быть послушными исполнителями замыслов Москвы и пытались, еще в 1927 г., установить свой собственный канал связи с Лхасой, по примеру лам-консерваторов. С другой стороны, оно может служить косвенным подтверждением рассказа Кхенчунга о «секретном письме» А. Доржиева Далай-ламе, имевшем негативные последствия для монгольской миссии.
Решение о посылке буддийской делегации в Лхасу, принятое 27 февраля 1928 г. антирелигиозной комиссией ЦК ВКП(б), возглавляемой Е. М. Ярославским, произошло еще до возвращения А. Ч. Чапчаева в Москву. Четыре месяца спустя (29 июня) группа советских руководителей: Е. М. Ярославский, П. Г. Смидович, М. А. Трилиссер и Л. М. Карахан — направила письмо генеральному секретарю ВКП(б) И. В. Сталину, в котором информировала его о намеченной поездке буддистов в Тибет и запрашивала на ее организацию необходимые средства в 50 тысяч рублей. Основная цель этой новой «тибетской экспедиции» формулировалась как «контрвоздействие на Лхасу через буддистов-обновленцев, возглавляемых Доржиевым», для устранения последствий «систематической отрицательной обработки» тибетского религиозного центра «реакционным» бурятско-калмыцким ламством [494]. Обновленцам предстояло убедить Далай-ламу в том, что буддисты в СССР не испытывают каких-либо притеснений со стороны властей, на что постоянно жаловались посещавшие Лхасу ламы-консерваторы — противники церковных реформ. «Необходимость установления более крепкой связи обновленческого движения среди наших буддистов с Далай-Ламой, именно с целью подкрепления обновленцев авторитетом последнего, — говорилось в письме, — диктуется еще и тем обстоятельством, что в Мукдене, в сфере японского воздействия, последнее время живет бежавший из Тибета антагонист Далай-Ламы, Банчен-Богдо, первое после Далай-Ламы лицо в буддийском мире по значению. Китайская реакция в лице Чжан-Цзолиновской клики и японцы успешно используют имя Банчена во Внутренней Монголии, а также все время пытаются завязать через него связи с ламством Внешней Монголии и СССР. Теперь эта последняя работа, конечно, еще более усилится, в связи с чем нужно поспешить с принятием соответствующих контрмер» [495]. В состав делегации предполагалось также включить несколько представителей НКИД и ОГПУ — «надежных наших работников» — для контроля за рациональным использованием средств и для ведения в Тибете «соответствующей политической разведки» [496].
19 июля 1928 г. Политбюро ЦК, заслушав на своем заседании сообщение Л. М. Карахана по вопросу о посылке буддийской делегации в Тибет, вынесло решение: «принять предложение Наркоминдела» [497].
Летом того же года, очевидно в связи с предстоящей поездкой в Лхасу делегации советских буддистов, Восточный отдел ОГПУ составил аналитическую записку «О буддийских районах». В ней давалась оценка политической ситуации в странах буддийского Востока: в двух Монголиях (Внешней и Внутренней), Бурятии и Тибете. Основной акцент в записке делался на опасности, которую представляла для СССР и МНР консолидация всех контрреволюционных элементов на территории Внутренней Монголии, при активной поддержке Японии и ее ставленника в Северном Китае, генерала Чжан Цзолина [498].
Здесь необходимо отметить, что обострение военно-политической обстановки на Дальнем Востоке, приведшее летом 1929 г. к вооруженному конфликту на КВЖД, внушало большое беспокойство советскому руководству. Еще в декабре 1927 г., выступая на XV съезде. партии, И. В. Сталин заявил, что одним из основных факторов международного положения является «усиление интервенционистских тенденций в лагере империалистов и угроза войны» [499]. Рост военной опасности, хотя и явно преувеличенный И. В. Сталиным, побудил ОГПУ, так же, как и штаб РККА, приступить в эти годы к разработке подготовительных мероприятий на случай войны на восточных границах СССР, прежде всего в отношении таких стран, как Персия и Афганистан, где столкновение с англичанами казалось неизбежным [500]. Подобные же мероприятия, по-видимому, разрабатывались и в отношении Тибета. Так, в уже упоминавшейся записке «Военное дело в Тибете», составленной по результатам экспедиции А. Ч. Чапчаева предположительно летом 1928 г., рассматривалась возможность «действия европейских войск» на Тибетском плато с северного направления (раздел «Оценка тибетского театра»). «Переход через горы с севера легче [чем переход через Гималаи с юга], хотя воду и корм для верблюдов там можно находить во всякое время года, — утверждал советский военный аналитик. — Крутизна карнизов, скал, и ущелий на юге и востоке много больше, чем на севере. Запад Тибета, пожалуй, является не менее трудным для доступа, чем юг и юго-восток. По мнению источника (очевидно, М. Т. Бимбаева — А. А. ), войска, сосредоточенные к северу от Тибета, могли бы двигаться крупной массой и, вероятно, достигли бы столицы без сопротивления» [501]. О каких европейских войсках «к северу от Тибета» могла идти речь в документе, если не о советских?!
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: