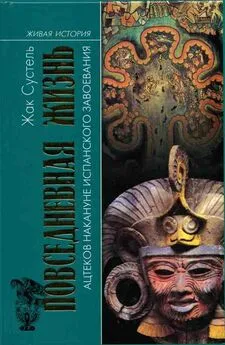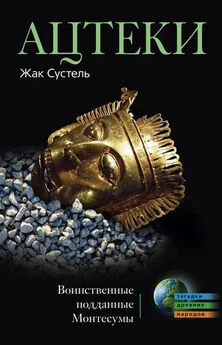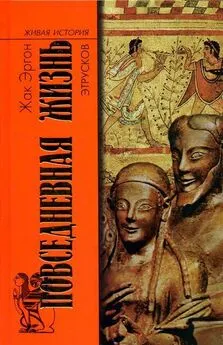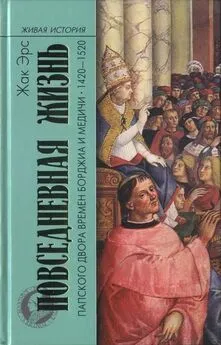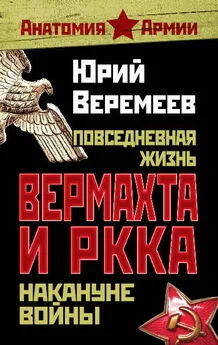Жак Сустель - Повседневная жизнь ацтеков накануне испанского завоевания
- Название:Повседневная жизнь ацтеков накануне испанского завоевания
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Молодая гвардия
- Год:2007
- Город:Москва
- ISBN:978-5-235-03021-3
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Жак Сустель - Повседневная жизнь ацтеков накануне испанского завоевания краткое содержание
Империя ацтеков (мешиков) процветала в Центральной Мексике на протяжении двух столетий, пока в XVI веке ее не уничтожили испанские конкистадоры. Цивилизация ацтеков стала высшим этапом развития доколумбовых культур Америки, соединив в себе примитивность и утонченность, развитую социальную организацию и кровавые человеческие жертвоприношения. Исследование известного французского антрополога и политика Жака Сустеля (1912–1990) с непревзойденной полнотой изображает жизнь разных сословий ацтекского общества — труд и отдых, войны, праздники, пышные религиозные обряды, быт столичного города Теночтитлана, на месте которого раскинулся нынешний Мехико. Эта книга адресована не только специалистам, но и всем, кого интересуют древние культуры Мезоамерики.
Повседневная жизнь ацтеков накануне испанского завоевания - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
В рассматриваемую нами эпоху они наверняка уже укоренились в мексиканском обществе, но как отдельный элемент, со своими собственными обычаями. Мастера плюмажей из Амантлана общались практически только со своими соседями, торговцами из Почтлана, и садились с ними за один стол во время общих пиров. Как и почтека , они могли принести в жертву раба после военнопленных, в месяц панкецалицтли ; жертву покупала вся корпорация в складчину. В месяц тлашочимако они отмечали особый праздник в честь своего квартального бога, четырех других богов и двух богинь, тоже относящихся к их корпорации, и приносили обет посвятить своих детей ремеслу, которым занимались сами.
Благодаря своему тонкому вкусу и бесконечному терпению эти ремесленники, как мы увидим, создавали, используя простейшие инструменты, настоящие шедевры. Альбрехт Дюрер, увидевший в 1520 году в Бельгии кое-какие из подарков, сделанных Мотекусомой Кортесу, которые тот прислал Карлу V, писал: «Эти предметы столь драгоценны, что их оценили в сто тысяч флоринов. За всю свою жизнь я не видел вещей, столь радующих сердце, ибо нашел в них восхитительное искусство и был поражен изощренным гением людей из тех чужих краев». Попробуем представить себе этих ремесленников, одни из которых работали на правителя во дворце, где их видел Берналь Диас, а другие дома, получая камни, перья или металл от сановников или купцов и создавая драгоценности и украшения. Каждую мастерскую занимала только одна семья: жены мастеров плюмажей, например, ткали и вышивали, делали одеяла из кроличьего пуха или окрашивали перья. Дети учились, глядя на родителей.
Скромный социальный статус «тольтеков», не стремившихся ни к власти, ни к богатству, не лишал их определенного уважения. Молодые сановники не гнушались «для упражнения и развлечения обучаться некоторым искусствам и службам: рисовать, заниматься резьбой по камню, дереву или золоту, обрабатывать драгоценные камни». Младшие сыновья Мотекусомы I, которые не могли править, посвятили себя «прикладным искусствам». Художника вознаграждали и, похоже, довольно неплохо: в одном (правда, исключительном) случае каждый из четырнадцати резчиков, изготовивших статую Мотекусомы И, получил в задаток одежду для себя и для жены, десять нош бутылочных тыкв, десять нош бобов, две ноши стручкового перца, какао и хлопка и лодку, наполненную маисом; а по завершении труда — двух рабов, две ноши какао, посуду, соль и кипу тканей. Вероятно, что на разных стадиях работ мастера получали щедрую плату. С другой стороны, их облагали налогом, но они, как и купцы, были освобождены от личной службы и сельхозработ. Наконец, их корпорации пользовались тем, что мы сегодня называем «гражданской правосубъектностью»: их руководители представляли их перед центральной властью и органами правосудия.
Значит, и здесь речь идет о привилегированном сословии, стоящем над массой «простолюдинов». Но от купцов их отличает то, что среди мастеров не наблюдалось более или менее подавляемого стремления подняться выше по общественной лестнице. Не было и напряженности, царившей между правящим сословием и почтека , и привычной для последних скрытности. Ремесленнику нечего скрывать, ему не надо оправдываться за престиж, к которому он не стремится. В этом сложном обществе у него есть свое место, которое ему подходит и на котором он намерен оставаться. Сословие торговцев динамично, сословие ремесленников — статично. Оно довольно тем, что занимает, благодаря льготам и уважению, заслуженному своим талантом, ту ступень на общественной лестнице, которая находится сразу над «плебсом» — народом без привилегий.
Простолюдины
Ацтекским словом « масеуалли » (во множественном числе «масеуалтин») в XVI веке обозначали любого, кто не принадлежал ни к одной из перечисленных выше социальных категорий, но и не был рабом: это было «простонародье», «плебеи» в испанском переводе. Похоже, что изначально это слово значило попросту «труженик». Оно происходит от глагола «масеуало» — «работать, чтобы снискать заслуги». Отсюда слово «масеуалицтли», что означает не «работа», а «деяние с целью снискать заслуги»: так, например, называли некоторые танцы, которые исполняли перед изображениями богов, чтобы выслужиться перед ними. Видно, что в этом слове нет ничего пренебрежительного. В литературе много случаев, когда «масеуалтин» можно перевести просто как «люди», без всякого оттенка ущербности. С другой стороны, не вызывает сомнений, что с течением времени это слово приобрело слегка презрительный оттенок Масеуалли заведомо не знаком с хорошими манерами. «Масеуаллатоа» значит «говорить по-деревенски», а «масеуалтик» — «вульгарный».
В большом городе, где проживало несколько тысяч сановников, купцов и ремесленников, подавляющее большинство свободного населения состояло из масеуалтин — полноправных членов племени и квартальной общины, на которых тем не менее накладывали неизбывные обязанности. Перечислив права и обязанности, относящиеся к их положению, мы сможем точно его определить.
Член кальпулли Теночтитлана или Тлателолько из сословия масеуалли имел право пользоваться участком земли, на котором строил дом, и наделом, который обрабатывал. Его дети ходили в квартальные школы. Его семья и он сам принимали участие в церемониях в квартале и в городе, в соответствии с обрядами и традициями. Он получал свою долю при раздаче продуктов питания и одежды, устраиваемой властями. Проявив ум и храбрость, он мог возвыситься над своим сословием, достичь почестей и богатства. Он способствовал избранию местных начальников, хотя в конечном счете их назначение зависело от императора.
Но если он оставался «простолюдином», ничем не проявив себя в первые годы активной жизни, на него налагались тяжелые обязанности. Главной была военная служба, которую ни один мешик не считал повинностью, а, скорее, честью и одновременно религиозным обрядом. Будучи записан в реестры городских чиновников, он мог в любой момент быть вызван на общественные работы по уборке, ремонту, сооружению дорог или мостов, возведению храмов. Если во дворец нужно принести дрова для очагов или воду — за ними быстренько отправляют масеуалтин. Наконец, наш простолюдин платит налоги, которые распределяются внутри каждого квартала начальником и старцами из совета с помощью чиновников, следящих за их сбором.
Однако следует подчеркнуть, что масеуалли из Мехико, Тескоко или Тлакопана — гражданин одного из трех городов конфедерации, стоявшей во главе империи, — принадлежал к привилегированной категории по сравнению с жителями покоренных городов, а тем более сельской местности. Хотя он платил подать, эти поборы ему в значительной мере компенсировали при раздаче продуктов и одежды за счет дани, поступающей из провинций, — это очень похоже на зерновой налог у римлян. Занимая определенное место в структуре общества, он получал свою выгоду от системы, превратившей его племя в доминирующую нацию. Эту выгоду оплачивали жители провинций. Что до крестьян, то они-то и были настоящими простолюдинами с грубым языком и неотесанными манерами — их труд требовался всегда, а урожай они никогда не получали полностью. На них общественное здание давило всем своим весом. Однако свободное население, что в городе, что в деревнях, обладало хоть и скромным, но достойным статусом, который не лишал будущего тех людей, которые могли возвыситься над общей судьбой благодаря личным качествам или удачному стечению обстоятельств. Никто не мог лишить масеуалли земель, которые он обрабатывал, или изгнать его из кальпулли , разве что в виде кары за серьезные проступки или преступления. Если не считать природных катастроф или войн, он не подвергался риску умереть от голода, разлучиться со своей общественной средой, соседями, богами.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: