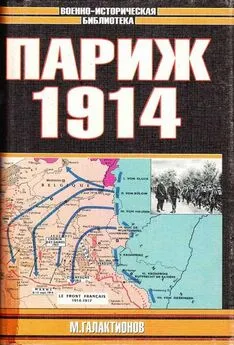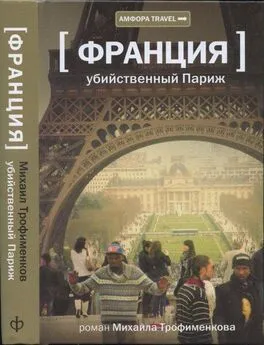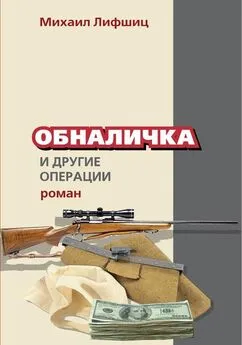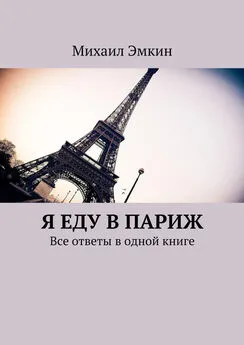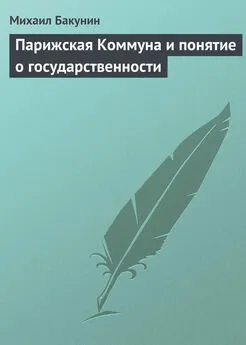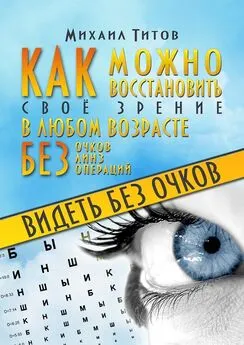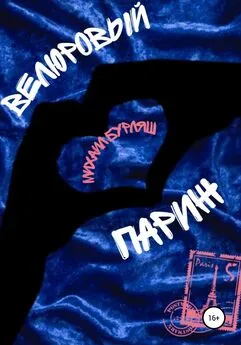Михаил Галактионов - Париж 1914 (темпы операций)
- Название:Париж 1914 (темпы операций)
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Издательство ACT
- Год:2001
- Город:Москва
- ISBN:5–17–000056–1
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Михаил Галактионов - Париж 1914 (темпы операций) краткое содержание
Аннотация издательства: Марнская битва — один из ключевых моментов Первой мировой войны. Вышедшая ранее в серии «Военно-историческая библиотека» книга Б. Такман «Первый блицкриг. Август 1914» заканчивается в канун Марны, вечером 4 сентября, когда «неслышно перевернулась и открылась новая страница мировой войны». Этой «новой странице» и посвящена работа М. Галактионова, которая может рассматриваться как эталон военно-исторического исследования. Она сочетает богатейший фактический материал с развернутым и дисциплинированным анализом, логику изложения с блестящим литературным языком.
Париж 1914 (темпы операций) - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Официальная история утверждает, что «при согласованном действии обоих командующих (1–й и 2–й армиями) путем использования всех наличных резервов, — в особенности 14–й пех. дивизии 2–й армии, — строгой организации защиты Марны, установления ясных, единых отношений командования и устройства преграждений и разрушения переправ через Maрну, удалось бы преградить продвижение в брешь наступающей ощупью английской армии до той поры, пока 1–я армия не достигла бы успеха» [208]. В виде примера приводятся в частности бои на переправах через Маас.
Итак, возможности были. Однако, они оказались неиспользованными. Почему? В силу несогласованности действий командования 1–й и 2–й армий, гласит официальная легенда.
«Всюду выступает недостаток единого руководства 1–й и 2–й армий. Переговоры, посылка туда и сюда офицеров мало помогали и часто вносили лишь путаницу» [209].
Оспаривать правильность этих утверждений не приходится. Отсутствие единства в управлении двумя правофланговыми армиями, несогласованность действий их командующих — слишком очевидный факт. Но вместо того, чтобы тщательно и конкретно проанализировать, в чем же именно выразилось влияние этих фактов на ход событий, пытаются ими объяснить все.
При этом, извращая исторические факты, создают целую теорию. У Клюка и Бюлова, дескать, были совершенно разные воззрения на способ действия в Марнском сражении. «Генерал Бюлов усматривал в смелом наступательном решении генерала Клюка с самого начала опасную затею. Только в оборонительной защите правого фланга фронта видел он задачу 1–й армии; ее разрешение следовало, по его мнению, искать в отходе за реку Урк и непосредственном тесном примыкании к правому флангу 2–й армии. В каждой бреши боевого фронта он видел, как и в битвах на реке Самбре и у Сен-Кантена, угрожающую опасность» [210]. Что касается Клюка, то ему приписывается «стойкое следование стратегической инициативе» [211].
Но верно ли, что все дело было в различии взглядов? Дальше будет показано, что это различие, по меньшей мере, преувеличено. Но если бы оно и существовало, нельзя рассматривать взаимоотношения Клюка и Бюлова в ходе сражения как теоретическую дискуссию в уютной обстановке кабинета. Первоначально брешь внутри 1–й армии возникла в силу внезапною удара на двух флангах. Но, говоря о левом фланге 1–й армии, мы искусственно оторвали 3–й и 9–й корпуса от 2–й армии, правый фланг которой они одновременно составляли. Эти два корпуса в начале сражения на Марне продолжали преследовать противника на юг вместе с правофланговыми корпусами 2–й армии. Что касается левофланговых корпусов 2–й армии, то они в течение всей Марнской битвы продолжали преследование противника, подвергнувшись внезапной атаке также и на левом фланге. Раздвоение оперативной мысли, столь характерное для командования 1–й армии, должно быть в полной мере перенесено и на командование 2–й армии. Раздвоение мысли привело с помощью противника к раздвоению оперативных направлений в действиях 1–й и 2–й армий.
Обе армии вели тяжелый бой — одна на реке Урк, другая у Сенгондских болот. Обе они рассчитывали на победу, обе применили наступательный образ действий, обе упорно продолжали проводить свою линию, невзирая на предупредительные сигналы. Это давление боевой действительности на сознание командования той и другой армий — фактор первостепенного значения. Так ли просто и легко было 8 сентября вывести войска из боя? Не было ли бы такое решение сигналом для общего отступления? Не были ли, короче говоря, и Клюк, и Бюлов оперативно скованы — один на реке Урк, другой у Сенгондских болот? Марнская брешь в конечном итоге — это не только чисто пространственное понятие, это — естественный результат двух усилий, действовавших в противоположных, направлениях. Концентрируя массу своих сил на двух крайних флангах, обе армии, понятно, оголяли центральную зону.
Объяснить происхождение Марнской бреши, значит не только сказать о разногласиях между Клюком и Бюловым, которые, в конце концов, были только внешним отражением более глубоких явлений. Объяснение надо искать прежде всего в неясности общей обстановки, в состоянии неизвестности, отличительной особенности войны, во внезапности ударов, которые получили германские армии в течение 6–7 сентября. Если бы Клюк сразу уяснил себе обстановку на реке Урк, ему не пришлось бы дергать свои корпуса порывистыми и нервозными толчками. Он сумел бы тогда и более четко ориентировать соседа. В действительности, запутавшись сам, он запутал и 2–ю армию. Но и Бюлов вовсе не принадлежал к «рыцарям без страха и упрека». Он продолжал преследование тогда, когда враг уже наступал на него. Даже уяснив себе этот последний факт, он вовсе не отказался от идеи преследования. Попав в водоворот противодействующих стихий, он и сам, в конце концов, не знал, что предпринять, и еще меньше мог оценить, какого образа действий следовало придерживаться его соседу.
Внезапность французского удара, казалось бы, обезвреженная на реке Урк и у Эстерне, все же привела к путанице, неувязкам, дерганию войск, потере времени и растрате сил. Конечно, но будь этой растерянности, неувязки, противоречивых распоряжений, не было бы и Марнской бреши — ее удалось бы запереть. Вот именно! Вся суть как раз в том, что паника — плод внезапного удара — распространялась в тылу германского фронта, воздействуя на нервы армейского командования. Можно ли было ее избежать? Конечно, да. Но в этом-то и состоит трудность противодействия внезапным фланговым ударам. Историческое исследование изучает факты, а не только возможности. Факты же ясно указывают на то, что Марнская брешь явилась результатом оперативной скованности 1–й и 2–й армий, созданной неожиданным контрнаступлением превосходящих сил противника.
Могли ли германское главное командование и штабы 1–й и 2–й армий своевременно выяснить обстановку? Узнать о готовящемся ударе из района Парижа, о готовящемся переходе в наступление английской и 5–й французской армий? Конечно, могли. Для этого нужно было вести надлежащую разведку всеми средствами, а не подчинять свои мысли и волю обманчивой иллюзии, что противник уже разгромлен.
3. Наступление армии левого крыла союзников 6–8 сентября
Вспомним первоначальный план маневра, выраженный в приказе генерала Жоффра 4 сентября: 5–я французская армия должна была к вечеру 5 сентября расположиться на линии Куртасон, Эстерне, Сезанн, чтобы наступать к северу. Английская армия должна была занять линию Шанжи (Changis) — Куломье, фронтом к востоку, с задачей наступать на Монмирай.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: