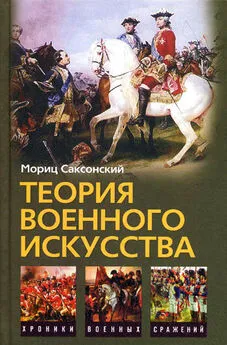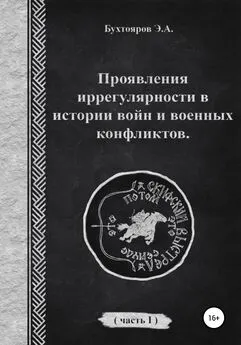Франц Меринг - История войн и военного искусства
- Название:История войн и военного искусства
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Издательство Полигон
- Год:1999
- Город:Санкт-Петербург
- ISBN:5-89173-056-1
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Франц Меринг - История войн и военного искусства краткое содержание
В книгу вошли очерки и отдельные главы из трудов Ф. Меринга, в которых освещается эволюция военного искусства, начиная с греко-персидских войн до наполеоновских. Для российского читателя будет необычным то, что историю ряда войн автор рассматривает с позиции Пруссии и ее национальных интересов. Но эта позиция Ф. Меринга делает книгу еще более увлекательной, захватывающей. Она рассчитана на широкий круг читателей и, несомненно, не оставит их равнодушными, пробудит еще больший интерес к военной истории.
История войн и военного искусства - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
…никогда еще несчастье, подобное деньгам,
Не зарождалось в мире. Они уничтожают города,
Внезапно изгоняют людей из домов и от очагов;
Гнусными побуждениями развращают благородные сердца,
Делая их способными на позорные злодеяния;
Деньги склоняют человека на любое предательство,
Побуждая его ко всяким нечестивым поступкам.
Поскольку рабовладельческое хозяйство вытесняло свободного гражданина, постольку приходилось содержать свободного гражданина, затушевывая его нищету за счет дани союзных городов, вследствие чего гнет над ними становился, конечно, все невыносимее, а морская сила Афин в корне подрывалась. У Фукидида об этом ничего не говорится; а как охотно можно было бы отдать дюжину его военных и осадных историй за маленькую главу о внутреннем экономическом развитии Афин за время правления Перикла. Однако экономическая критика фактов имеет те же права, как и военная критика фактов, а наше экономическое зрение достаточно обострилось в настоящее время, чтобы можно было сказать с вероятностью, что должно было происходить в торговой республике, одной ногой опирающейся на дань, собираемую с угнетаемых общин, а другой ногой — на рабовладельческое хозяйство.
Яснее ясного, что при такой обстановке афинская демократия должна была становиться все более воинственной и захватнической, и нам думается, что для Перикла является весьма сомнительным комплиментом, когда г. Дельбрюк говорит, что он думал лишь о том, чтобы сохранить существовавшее положение вещей. Дельбрюк всегда готов насмехаться над «моральными усыпителями», не могущими понять, почему старый Фриц [10] Прусский король Фридрих II — один из творцов военного могущества старой Пруссии. — Ред.
не удовольствовался завоеванием Силезии, а начал Семилетнюю войну, чтобы захватить еще и Саксонию; однако Перикл должен остаться совершенно неповинным в Пелопоннесской войне. Мы опасаемся, что здесь снова подойдут слова императрицы — жены Фридриха, с которыми она обратилась к г. Дельбрюку, когда тот представился ей в качестве «консервативного социал-демократа»: «Это, право, очень мило с обеих сторон». Ни в одном из обоих случаев нельзя привести неопровержимых документальных доказательств, но основания, которые поддерживают гипотезу г. Дельбрюка относительно прусского короля, меньше тех оснований, которые говорят против его гипотезы относительно афинского государственного деятеля.
Если бы Перикл не был достаточно защищен от подозрения, что он кормил афинский народ из пустых и личных побуждений, приписываемых ему Беком, то тогда он был бы не государственным человеком, а в лучшем случае — «практическим политиком», который должен был жить, применяясь к существующей обстановке, даже и не подозревая, что фактическим следствием его политики явится морально-политический упадок афинской демократии. Если бы положение осталось неизменным, то банкротство можно было бы высчитать по пальцам. Из тяжелого поражения Афин, приведшего к 30-летнему перемирию, Перикл сделал вывод, что для Афин невозможно становиться одновременно большой сухопутной и большой морской державой, но если он и ограничился лишь морским господством, то во всяком случае он не желал отказаться от его расширения. Конечно, в настоящее время легко сказать, что болезнь, от которой страдала афинская власть, развилась бы на высшей ступени в еще большей степени, но Перикл не мог трогать ее действительных корней уже по одному тому, что он, как дитя своего времени, не мог их познать; совершенно не упоминая о рабовладельческом хозяйстве, Перикл говорит об афинском господстве над союзниками, что оно есть не что иное, как тирания, сохранять которую несправедливо, но отказаться от которой опасно и даже невозможно. Сохранение же «тирании» совпадало с ее расширением. Как руководитель афинской демократии Перикл оказался заключенным в круг ее представлений; его задача должна была ограничиться тем, чтобы наиболее благоразумно и осторожно работать для расширения морского владычества Афин на западную часть Средиземного моря.
Но как бы ни была благоразумна и осторожна его политика, цель ее оставалась совершенно определенной. Перикл основал колонию Туриой на Тарентском заливе и заключил союз с нижнеитальянско-сицилийскими городами Региум и Леонтини. Затем, когда Коринф вступил в горячую распрю с Корцирой и когда корцирцы, не принадлежавшие ни к Афинскому, ни к Пелопоннесскому союзам, попросили помощи у афинян против угрожающих вооружений Коринфа, Перикл заключил сделку с ними. Весьма характерно, что корцирцы обосновывали свое предложение тем, что их дружба или враждебность будет иметь для Афин важное значение вследствие того, что их остров расположен на пути в Италию и Сицилию и ни один корабль не может без их желания пройти оттуда в Пелопоннес; флот же, направляющийся туда, может отправиться от них с гораздо большими удобствами. На самом деле Корцира обладала значительной морской силой — самой крупной в Греции после Афин и Коринфа.
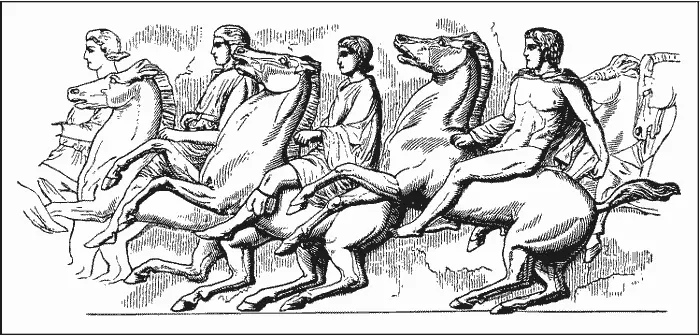
Греческие всадники. С барельефов Парфенона
Эта сделка дала первый толчок к Пелопоннесской войне, разоблачив вместе с тем главную ее причину — борьбу за господство на западном море. Если бы коринфянам удалось победить корцирцев, то афиняне были бы отрезаны от этого господства в гораздо большей степени, чем они были отрезаны существованием перешейка. В том угрожающем положении афинянам не оставалось ничего другого, как принять предложение корцирцев. Наоборот, если бы они хотели удовольствоваться тем, чем они обладали, если бы у них не было других намерений, кроме сохранения мира, тогда они должны были бы отказать корцирцам. Во время 30-летнего перемирия всякий греческий город, не принадлежащий ни к Афинскому, ни к Пелопоннесскому союзам, сохранил, конечно, право присоединяться по своему желанию к тому или другому союзу, и на этом настаивали корцирцы. Наоборот, послы, направленные в Афины коринфянами, чтобы помешать намерениям корцирцев, не без основания указывали на то, что этот пункт перемирия не должен толковаться таким образом и что из-за этого может возникнуть война между двумя союзами, избежать чего и является целью перемирия. Коринфские послы делали совершенно логические выводы, что если Афины объединятся с корцирцами, то этим начнется война между Афинами и Коринфом, «так как, если вы выступите в бой вместе с корцирцами, то мы не сможем бороться с ними, не нападая одновременно и на вас». К тому же коринфские послы очень настойчиво напоминали о той лояльной политике, которую проявил Коринф по отношению к Афинам во время самосского восстания.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: