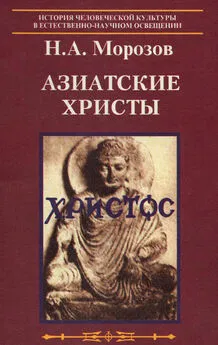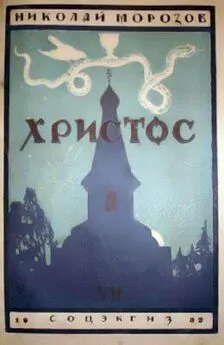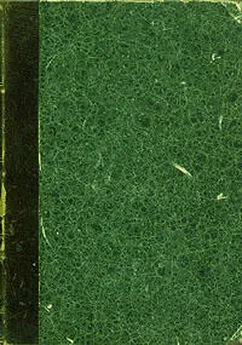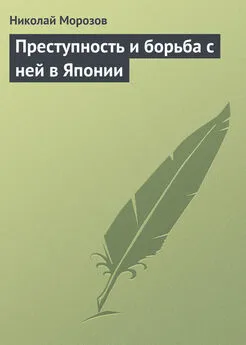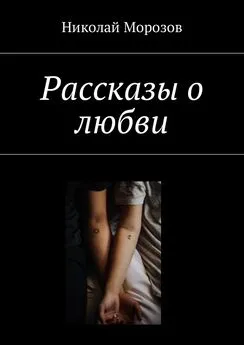Николай Морозов - АЗИАТСКИЕ ХРИСТЫ
- Название:АЗИАТСКИЕ ХРИСТЫ
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Николай Морозов - АЗИАТСКИЕ ХРИСТЫ краткое содержание
Перед вами девятый том сочинений Н.А. Морозова, публикующийся
впервые на основе его архива. Книга посвящена вопросам истории и философии буддизма.
АЗИАТСКИЕ ХРИСТЫ - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Каково историческое значение этих сказок? Конечно, никакого, потому что не знаешь, что в них придумали сами рассказчики, и что придумали их непосредственные предшественники. Но он имеет огромное этнографическое значение, невольно рисуя не только направление фантазии местного населения, но и его мировоззрение и даже самый быт.
Какова характеристическая особенность таких записей?
Та, что они локальны и будущий этнограф найдет их записанными в таком виде почти всегда только в одном экземпляре, или совсем не найдет рукописи, которую собиратель забросит как более не нужную, после того, как ее истреплют наборщики. Даже и в том случае, если вместо одной записи окажутся и еще две-три копии, с неизвестного времени и места, ее древность и большая распространенность еще не гарантированы. А одиночность рукописи есть, безусловно, верный признак ее локальности, а не распространенности, и, во-вторых, ее этнографичности, а не историчности, хотя бы предметом ее и было повествование о событиях общенародного характера, совершившихся лишь в прадедовские времена, а не за сотни и даже тысячи лет назад.
Дело в том, что литературное творчество не есть индивидуально явление как можно было бы заключить из стихотворения Пушкина:
Пока не требует поэта
К священной жертве Аполлон,
В заботах суетного света
Он малодушно погружен;
Молчит его святая лира,
Душа вкушает сладкий сон,
И из людей ничтожных мира
Быть может, всех ничтожней он.
Но лишь божественный глагол
До слуха чуткого коснется,
Душа поэта встрепенется,
Как пробудившийся орел.
Тоскует он в забавах мира,
Людской чуждается молвы,
К ногам народного кумира
Не клонит гордой головы.
Бежит он, дикий и суровый,
И звуков, и смятенья полн,
На берега пустынных волн
В широкошумные дубровы.
Если тут он и правильно описывает индивидуальное самочувствие писателя-художника, то это еще не значит, что его пробудил к нему какой-то «божественный глагол». Глагол этот исходит несомненно изнутри его самого, а потому он и в заботах суетного света, когда его творческие силы как бы засыпают, не является ничтожеством. Писатель есть общественное явление, продукт сложных влияний и сил наследственных и социальных, а потому не может выскочить индивидуально, в одиночку, без того, чтобы те же общественные силы и влияние не вызвали и других писателей, поэтов и художников. Взятое в своей совокупности литературное творчество есть общественный процесс, неизбежно начинающийся с того момента, как успехи культуры настолько обеспечивают материальное благосостояние данного народа или хотя бы одного его класса, что у него остается свободное время, чтобы не исключительно погружаться «в заботах суетного света», а подумать и о его происхождении. Отсюда ясно, что и все повествования наших классиков и не классиков о Типпархах, Аристотелях, Конфуциях, Буддах, Христах, Магометах и Моисеях, выскочивших одиночно, есть ни что иное, как простые мифы. Да и сами эти сложные мифы не могли развиться одиночно в глубокой древности по одному «божественному гласу Аполлона», и не могли быть продиктованы самим богом, удостоившимся этого людям, как утверждают христианские и магометанские теологи, — а были продуктами сложного общественного процесса, который в ту же эпоху и в том же народе должен был создать и ряд других произведений близкого к ним уровня, так как эволюция литературного и художественного творчества шла хотя и порывами, но последовательно все вперед и вперед.
Все эти соображения, имеющие характер общего закона, должны быть нашими верными руководителями при исследовании имеющихся в нашем распоряжении исторических первоисточников. Я только что показал, как русские северные сказки, собранные О. Э. Озаровской, имеют огромный этнографический интерес, но никак не исторический. А вот, например, те рукописи по «Буддийской космологии», которые находились в 1837 году в библиотеке Казанского университета и которые я перечислял в этой самой главе по проф. О. Ковалевскому, — какой интерес они имеют? Этнографический или исторический? Локальный или общий?
О них не сказано, как они попали под разные нумера каталога Казанского университетской библиотеки… Орфография их современная, имеются они в единичных экземплярах, а не так, чтобы то же самое сочинение было найдено еще где-нибудь в Монголии или Тибете или у Индийских буддистов, и занумеровано в какой-нибудь другой университетской или неуниверситетской библиотеке.
Значит, это локальные произведения, и притом недавнего времени. Как же они возникли? Все говорит за то, что по способу Озаровской. Какой-нибудь калмык, получивший высшее образование по-русски в Казанском или Московском университете и вернувшийся на родину, стал записывать космологические и мифические устные сказания своих говорливых старцев, объединяя их на своем языке под названием «Зерцало Вселенной», «Источник мудрецов», «Сокровище, насыщающее желания» и даже «Монгольская летопись» и потом при случае сам (или сын после его смерти) передал ее в Казанский университет или продал проф. Ковалевскому.
Значит, эти рукописи (как и все находимые таким же образом в Индии), имеют только этнографический локальный интерес, рисуют современные представления о разных космологических и религиозных предметах, но это еще не значит, что таков же был буддизм и до Чингиз-Хана (1155—1227), владения которого простирались от Пекина через всю область современного буддизма до Инда, через Тибет, на юго-восток и до Каспийского моря через Монголию на запад. Все эти неизмеримо обширные разъединенные пустынями и неудержимые в стратегическом отношении под одною насильственной властью страны, могли быть объединены только теократически и это тем более обязательно, если бы Чингиз-Хан начал свои «победы» (что совсем невероятно) из пустынной Монголии, редкие жители которой до сих пор являются самыми мирными кочевниками, разводящими верблюдов, лошадей и рогатый скот. Теократический характер власти Чингиз-Хана подтверждается и сказаниями, что он дал этим — теперь буддийским странам — их законы, на основании будто бы «старинных обычаев», и тем, что его племянник Батый (довольно созвучно с Буддой) обоготворен монголами.
Припомним также, что и Далай-Ламы появились в Тибете только с XIV века, т.е. одновременно с другой буддийской знаменитостью — Тимуром (т.е. Железным, 1383—1463), власть которого простиралась над всей центральной Азией и даже над Индией и Персией, что опять немыслимо со стратегической точки зрения, но вполне возможно с теократической, вроде, например, власти римского папы над всеми католиками. В это же время появляются в Тибете Далай-Ламы, первые достоверные перевоплощенцы вечно воскресающего Будды.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: