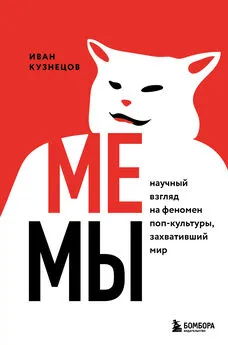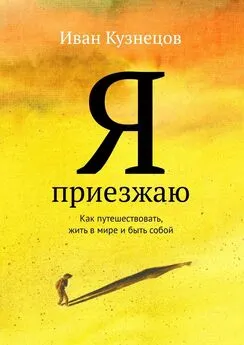Иван Кузнецов - Газетный мир Московского университета
- Название:Газетный мир Московского университета
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент «Флинта»ec6fb446-1cea-102e-b479-a360f6b39df7
- Год:2005
- Город:Москва
- ISBN:5-89349-815-1,5-02-033393-X
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Иван Кузнецов - Газетный мир Московского университета краткое содержание
Книга посвящена 250-летнему юбилею Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова. В ней впервые представлены все университетские газеты: «Московские ведомости» (1756–1917), «Первый университет» (1927–1930), «За пролетарские кадры» (1930–1937), «Московский университет» (1937–2004), «Строитель университета» (1949–1951).
Книга содержит иллюстрации и приложение, в котором собраны статьи и другие материалы об истории университета.
Газетный мир Московского университета - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Мне уже доводилось говорить о том, что трудно, да и бессмысленно гадать, что сталось бы с идеей Ломоносова об учреждении Московского университета, если бы она не овладела полностью и без остатка мыслями и делами другого великого гражданина и просветителя России, самого близкого к императрице Елизавете Петровне человека – Ивана Ивановича Шувалова.
Роль и место Шувалова, которого «считали ответственным за все важнейшие явления второй половины елисаветовского царствования», вполне объективно и точно, по моему мнению, охарактеризовал С.М. Соловьев, сказав: И.И. Шувалов сосредоточил в своих руках управление тремя корпусами – сухопутным, морским и артиллерийским – и, оставаясь куратором Московского университета, был, таким образом, как бы министром новорожденного русского просвещения; только Академия наук находилась по-прежнему под президентством графа Кирилла Разумовского».
Вполне понятно, что именно от Шувалова фактического, а не номенклатурного «министра русского просвещения», прямо зависела судьба «новорожденного просвещения». Он лично вырабатывал и проводил в жизнь государственную линию в области строительства российского образования.
Если с этих позиций посмотреть на основной вопрос русской жизни, каким был тогда и ныне остается «университетский вопрос», то к главной заслуге Ивана Ивановича перед Россией я отнес бы следующее. Он не только сам понял исключительную важность этого вопроса для будущего страны, но и сумел убедить саму всероссийскую самодержицу в приоритетности развития образования среди прочих важнейших и неотложных государственных задач. Причем убедить столь твердо, что Елизавета Петровна взяла под свою непосредственную «протекцию» первенца российского образования – Московский университет. Взяла не почетно, не пустословно, не виртуально, а реально. При полной поддержке императрицы Шувалов проводит через Сенат соответствующее решение – указ императрицы Елизаветы Петровны. Видя твердость императрицы, Правительствующий Сенат, в свою очередь, проникся пониманием приоритетности образования и увеличил изначально просимую сумму на содержание университета с 10 до 15 тыс. рублей. Все это потребовало от Шувалова прозорливости и огромного мужества в борьбе с противниками идеи Ломоносова, каких у него было немало как внутри страны, так и за ее пределами. Тем самым было обеспечено успешное разрешение вопросов строительства и государственного финансирования Московского университета.
Мы должны воздать должное Шувалову как «министру новорожденного русского просвещения» и за то, что он, не в пример многим будущим номенклатурным министрам просвещения, умел смотреть далеко вперед. «У И.И. Шувалова, – пишет П.Н. Милюков, – уже шевелилась в голове мысль – привлечь все русское дворянство к правильному прохождению образовательной школы. Для этого он проектировал… покрыть все Россию сетью учебных заведений». Выполнить часть этих грандиозных замыслов Шувалова во многом суждено было именно Московскому университету…».
Сорок два года Иван Иванович Шувалов был куратором Московского университета, руководил всеми его делами от финансовых, кадровых до учебных. При нем, если вспомнить, что Ломоносова давно уже не было в живых (он умер в 1765 г.), университет вырос и окреп настолько, что далее смог самостоятельно продолжить плавание в бурных водах России.
Логично задать вопрос: а что же в итоге, каковы осязаемые результаты его многотрудной и многогранной деятельности на ниве организации просвещения в России?
Ответ на это вопрос дал Павел Николаевич Милюков (1850–1943), которого как одного из крупнейших русских историков, государственного, политического и общественного деятеля, в нашей аудитории нет необходимости представлять. Он нам хорошо известен как воспитанник Московского университета – ученик В.О. Ключевского, автор уникальных 3-томных «Очерков по истории русской культуры», никем не превзойденных по своей научной и общественной значимости и по сей день.
«Мы видели, – пишет П.И. Милюков, – в чем находили удовольствие в средние века любители «светского жития». Теперь мы должны прибавить, что и лучшие люди того же поколения, – враждебные светским излишествам и рассеяниям, – все-таки искали удовлетворения в удовольствиях же, только более тонких и культурных. Новую ноту вносит здесь лишь поколение, родившееся в самом начале царствования Елизаветы и выступившее в литературе в самом его конце… Главный материал для этого культурного движения дала подрастающая молодежь новооткрытых высших учебных заведений… Учебные годы этого последнего поколения совпадают с открытием Московского университета». Это «поколение начало думать и чувствовать как раз тогда, когда в Европе совершился крутой перелом настроения, ознаменовавший переход к революционной эпохе». Имя ему – «елизаветинское поколение».
Подготовлено и воспитано оно было в основном в стенах Московского университета, остававшегося до первых лет XX века единственным университетом в России. Ну а если вспомнить, что практически все это время университетом руководил И.И. Шувалов, то вполне логично называть это поколение и «шуваловским».
Здесь я хотел бы сказать несколько слов о сути «крутого перелома настроений» в Европе, ознаменовавшего «переход к революционной эпохе». Тогда рельефнее будет прописан и понятен портрет поколения, перешагнувшего рубеж двух веков.
Первое. Для России появление этого поколения означало формирование и развитие «новой бессословной или, точнее, междусословной культуры среди так называемой «интеллигенции». Чтобы уяснить происхождение этой среды, напомним известный факт: именно присутствие в правительственных учебных заведениях, за все время их существования, весьма значительного недворянского элемента.
Второе. Это поколение входило в стены Московского университета в тот самый момент, когда по странам Европы начинали свое победное шествие первая научная революция, в корне и повсеместно менявшая содержание и формы университетского образования. Ученые начинали пользоваться «признанием и почетом как составная часть единого общего мира науки и литературы». Уже появились первые научные общества – Лондонское королевское общество и Французская королевская Академия. Мощный импульс получило естествознание. «Не было больше необходимости, – пишет Джон Бернал, – как в предыдущий период, сосредоточивать все усилия на ниспровержении физики Аристотеля или физиологии Галена. Теории Коперника, Галилея и Гарвея признавались… почти единодушно… величайшим триумфом XVII столетия, несомненно, является завершение общей системы механики, способной объяснить движение звезд в рамках наблюдаемого поведения материи на земле… Оставалось решить две проблемы: объяснить эллиптическую форму орбит и образ действия больших притягивающих тел… и хотя много людей подготовили для него почву, но только один из них имел математическую способность найти его и сделать вытекающие из него революционные выводы. Этим человеком был Исаак Ньютон… Вклад Ньютона в науку имел решающее значение. Наука «приобрела огромный авторитет, по крайней мере, в высших кругах общества того времени…
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
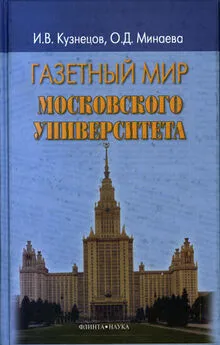
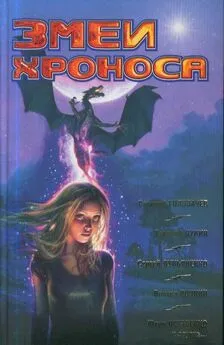
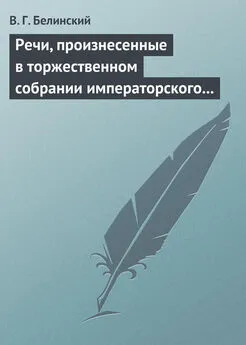
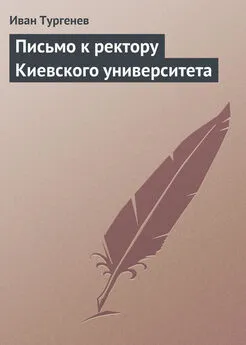
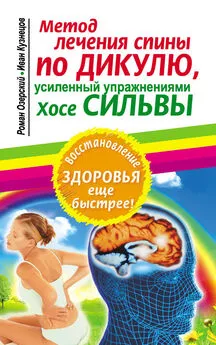
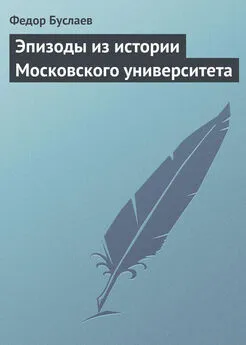

![Иван Кузнецов - Долг [litres]](/books/1062432/ivan-kuznecov-dolg-litres.webp)
![Иван Божерянов - Великая разруха Московского государства, 1598–1612 гг. [с иллюстрациями]](/books/1102372/ivan-bozheryanov-velikaya-razruha-moskovskogo-gosudar.webp)