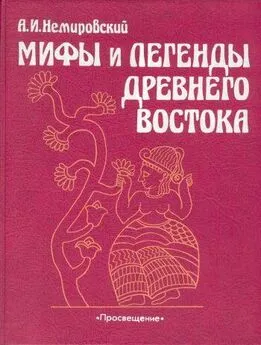Иван Ладынин - История Древнего Востока
- Название:История Древнего Востока
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент «Дрофа»d9689c58-c7e2-102c-81aa-4a0e69e2345a
- Год:2009
- Город:Москва
- ISBN:978-3-358-01189-2
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Иван Ладынин - История Древнего Востока краткое содержание
В учебном пособии представлен обширный материал по истории Древнего Востока. Цивилизационный подход к освещению важнейших проблем истории древних обществ позволяет по-новому рассказать об этапах их развития, культуре и мировоззрении различных народов.
Изложение материала и датировка событий опирается на новейшие исследования. В каждом разделе приведены основные историографические сведения, указана литература, в том числе публикации источников.
История Древнего Востока - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Другим новым явлением было рабство. Теперь значительная часть пленных обращалась в рабов, однако в производстве рабский труд особенной роли не играл. В зачаточных формах стала развиваться торговля: вместо денег применялись раковины-каури. Чжоусцы унаследовали и развили иньскую идеологию. В государственной религии главное место заняло Небо – почти безличное и всемогущее вселенское начало. Ван получил титул «Сын Неба», что выражало принадлежавшую только ему, по статусу, способность ретранслировать космоупорядочивающую энергию Неба на благо представляемого им сообщества и всей земли.
По территории государство Чжоу вскоре существенно превзошло Шан-Инь. Унаследованные чжоусцами хозяйственные достижения иньцев (прежде всего использование бронзы) распространились на новые земли.
Распад Китая и эпоха Чуньцю
Система «наследственных владений» с неизбежностью приводила в течение веков к росту самостоятельности их владетелей и ослаблению власти чжоуского вана. Резкий импульс этому процессу придал внешнеполитический кризис, вызванный вторжениями полукочевых племен жунов , населявших верхнее течение Хуанхэ, западных соседей Чжоуской державы.
Отдаленно родственные чжоусцам, жуны стояли еще на родоплеменной стадии развития. Первые десятилетия VIII в. до н. э. стали временем все усиливавшегося натиска жунов на Чжоу; в тот же период происходили мятежи владетельных князей. В 771 г. до н. э. чжоуский Ю-ван, неудачно боровшийся с жунами, был убит союзными им мятежными владетелями, а его преемник Пин-ванв 770 г. до н. э. был вынужден бросить столичный район, превратившийся в арену безнаказанных набегов жунов, и переехать со своим двором на восток, в район Лояна. Этот момент в китайской традиции принято считать концом периода Западного Чжоу (последующее время существования династии выделяется в эпоху Восточного Чжоу , 770–256 гг. до н. э.).
Бегство от жунов привело к окончательному ослаблению власти вана. Он больше не вмешивался во взаимоотношения чжухоу, и те стремительно превращались в фактически независимых государей. Уменьшился домен вана (как за счет новых пожалований чжухоу, так и под их ударами), прекратилась регулярная выплата дани вану со стороны чжухоу.
К концу VIII в. до н. э. Китай фактически распался на тысячу с лишним самостоятельных владений, между которыми немедленно началась борьба за поглощение и подчинение соседей. С другой стороны, номинально продолжала признаваться верховная власть безвластного чжоуского вана как традиционное воплощение единства страны, тем более что почти все местные владетели происходили из династии или очень тесно были породнены с ней браками. За ваном остался и его исключительный сакральный статус как посредника между людьми и Небом.
На чжоуский престол никто не посягал, и только за его обладателями оставался титул «Сын Неба» и вана.
Чжухоу стремились представить свои действия как направленные на служение интересам вана. Период, когда местные правители разной степени могущества боролись за гегемонию друг над другом, признавая верховную сакральную, но номинальную власть чжоуского вана, называется Чуньцю («Весны и Осени», 722–403 гг. до н. э.). Это был один из самых мрачных периодов в истории Китая, полный бесконечными войнами между владениями, смутами и переворотами. В этой борьбе всех против всех нередким делом стали убийства ближайших родственников и предательства любых союзов и соглашений. С распадом страны было почти утрачено осознание ответственности власти и знати перед населением.
Литература без всякого осуждения описывает следующие эпизоды: один из правителей публично горевал о том, что ему приходится дышать тем же воздухом, что и простолюдинам, и придворный мудрец утешил своего государя, объяснив, что его овевает неизмеримо более благоуханный ветер, чем его подданных; гость другого правителя, услышав от него предложение принять в дар наложницу, сказал из желания вежливо отказаться от столь ценного дара, что у той ему понравились только руки, и тут же получил на блюде отрубленные руки наложницы (эпизод относится к III в. до н. э., более позднему этапу эпохи междоусобиц, но отражает психологию, характерную для всего периода в целом).
В конце VIII – конце VII в. до н. э. Китай испытывал на себе восточные импульсы того переселения кочевых народов Великой степи, западными звеньями которого были рассматривавшиеся выше миграции скифов. С северо-востока в долину Хуанхэ прорывались кочевые племена ди (включавшие, по-видимому, ираноязычные группы), опустошая центральные районы страны, включаясь в усобицы князей и выступая как союзники одних и враги других.
В этот период изменился характер самоидентификации древнекитайской общности . В эпохи Шан-Инь и Западного Чжоу она носила политический характер: противопоставление «мы – они» отталкивалось от того, подчинялись ли соответствующие группы власти вана или нет. Теперь сформировалась новая этнокультурная самоидентификация: общность носителей древнекитайского языка, ритуала и социокультурных норм (в том числе определенного земледельческого хозяйственного типа), занимавшая среднее течение Хуанхэ, получила особое самоназвание хуася (или чжуся) и противопоставила себя всем инокультурным соседям, которых рассматривала как некое единство «варваров четырех сторон света».
Считалось, что хуася связаны между собой родством (что закреплялось идеей об их общем происхождении от мифического Хуанди – легендарного первого владыки Поднебесной). Их княжества рассматривались как «Срединные», а они сами – как «свои» друг для друга (в отличие от чужаков-«варваров») уже независимо от их политической ориентации: «Варвары – это шакалы и волки, им нельзя идти на уступки; чжуся – это родственники, и их нельзя оставлять в беде». Этому противопоставление имело и этическую окраску: «варвары не придают значения нравственному началу», а хуася следуют законам справедливости, исходящим от Неба.
Менталитету хуася действительно был присущ особый этический комплекс, восходящий, возможно, еще к чжоуским временам. Авторитет социально-этических норм мотивировался тем, что они являются единственно возможным средством согласовать желания и потребности отдельных людей и помешать им уничтожить друг друга в смутах. Таким образом, смысл самой нормы измерялся тем, что она обеспечивает, насколько это возможно, удовлетворение потребностей каждого отдельно взятого человека. В то же время парадоксальным образом утверждалось, что удовлетворить их возможно лишь в том случае, если сами люди будут как можно меньше думать о себе, стараясь заботиться лишь о выполнении своего долга перед другими как о безусловном самодовлеющем приоритете; окружающие, со своей стороны, позаботятся о них. Считалось, что общественная санкция заботы о себе тут же привела бы к тому, что люди вообще пожелали бы отбросить любые ограничения и погрузились в хаос.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: