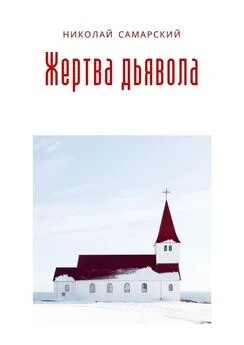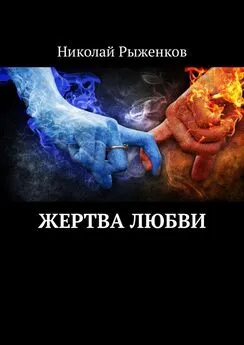Николай Толстой - Жертвы Ялты
- Название:Жертвы Ялты
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Николай Толстой - Жертвы Ялты краткое содержание
В книгу вошло историческое исследование Н.Д. Толстого о трагической судьбе 2,5 млн. советских граждан, по разным причинам оказавшихся после второй мировой войны за пределами страны (пленные, перемещенные лица, Власовцы). Все они были депортированы на Родину, где либо погибли, либо настрадались в лагерях.
Очерк «Жертвы Ялты» издавался в Англии и Франции и впервые полностью публикуется в нашей стране.
Жертвы Ялты - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Я спросил князя, были ли у него сомнения в успехе выбранной линии. Мой вопрос, по-видимому, удивил его.
— Нет, — объяснил он, — с советскими надо говорить жестко — это им нравится. Ведь лучше всего они понимают язык силы.
Глава 17
Советские действия и мотивы
В Москве, в Фуркасовском переулке, недалеко от площади Дзержинского, находится здание архивов КГБ. Здесь в подвале хранятся материалы о всех важных операциях, проведенных этой организацией и ее предшественницами. Где-то в темных закоулках стоят, верно, и ящики с досье СМЕРШа и НКВД о репатриационных операциях 1943–1947 годов. Но даже если представить себе, что советский режим в один прекрасный день рухнет, вряд ли этим материалам суждено когда-нибудь увидеть свет. Хранилище архивов оборудовано устройством, с помощью которого можно в мгновение ока, взрывом или кислотой, уничтожить весь этот мрачный список преступлений. Так что даже и в будущем многие документы, необходимые для рассказываемой в этой книге истории, окажутся, как и сегодня, недоступны для исследователей.
Все же материалы из других источников дают возможность воссоздать достаточно точную картину событий. Александр Солженицын посвятил этой теме главу в «Архипелаге ГУЛаг»: «Та весна». Некоторые заключенные ГУЛага со временем оказались на Западе и рассказали о себе и товарищах по несчастью. Кое-что поведали нам офицеры НКВД и СМЕРШа, перебежавшие на Запад. Есть и другие источники, свидетельства, которые самым неожиданным образом освещают потаенные уголки этой драмы. Поэтому мне кажется справедливым сказать, что возникающая картина если и не полна, то — во всяком случае, в основном — правильна.
Прежде всего, следует отметить, что советское правительство считало всех советских граждан, временно вышедших из-под его контроля, предателями, независимо от обстоятельств, которые привели их за границу, и независимо от того, как вели себя эти люди в другой стране. Пытаясь оправдать такой подход, Геральд Рейтлингер рассказывает о том, что красноармейцы, доведенные до крайности собственным тяжким опытом и страданиями своего народа, порой сами убивали попавших к ним в руки русских в немецкой форме. Действительно, преступлениями нацистов можно оправдать многое, но к нашей теме объяснение Рейтлингера отношения не имеет. Возвращаемые на родину пленные охранялись не Красной Армией, и регулярные войска редко имели с ними дело.
Мы можем с уверенностью отбросить допущение, что на отношение советского правительства к репатриантам хоть в какой-то мере влияло поведение нацистов. Отношение к советским военнопленным как к изменникам определилось еще задолго до нападения Германии на СССР, более того, на практике это отношение проявилось еще в ту пору, когда Советский Союз и нацистская Германия были союзниками. После финской войны, в марте 1940 года, русские пленные, захваченные финнами, были отправлены на родину. Триумфально прошествовав по улицам Ленинграда, под восторженные крики толпы, с лозунгами «родина приветствует своих героев», они промаршировали прямиком на вокзал, где их посадили в вагонзаки и отправили в лагеря. Никого не интересовало, как именно они вели себя во время плена, и люди среди них были самые разные: от бравых офицеров, вынужденных сдаться в бою, как капитан Иванов, оказавшийся в Устьвымлаге, до штатских, вроде простой девушки Кати из Ленинграда, работавшей у финнов официанткой (она попала в Потьму). Эти пленные не сотрудничали с врагом, не были заражены антикоммунистической идеологией, их даже и не обвиняли в этом. Их преступление состояло единственно в том, что они заглянули в «несоциалистический» мир. Русским заключенным, попавшим к немцам, была известна мрачная судьба пленных финской кампании: никто из них не вернулся к себе домой. И напрашивался единственный вывод: все они были ликвидированы.
Советское правительство не скрывало отношения к гражданам, попавшим в руки врага. Пресловутая статья 58–1 б УК СССР от 1934 года предусматривала для них соответствующее наказание. Во время войны Сталин самолично издал ряд приказов, угрожавших драконовскими мерами дезертирам и военнопленным, например, приказ № 227, который был издан в 1942 году и зачитан во всех частях Красной Армии. Аналогичные приказы издавались в 1943 и 1944 годах, с некоторыми изменениями в связи с текущими военными задачами. Советским солдатам предписывалось при угрозе сдачи в плен кончать с собой. Один англичанин, военнопленный, освобожденный на Востоке в самом конце войны, сообщал, что видел у красноармейцев экземпляры такого приказа. Красноармейцы, оказавшиеся после освобождения из немецкого плена у англо-американцев, обращали внимание союзников на эти приказы, как на неопровержимое доказательство того, что им давно уже вынесен заочный приговор. Таким образом, советские намерения были хорошо известны и пленным, и союзникам.
Советскому солдату было достаточно хотя бы на короткое время оказаться за линией фронта (а это во время наступления 1941–1942 годов случалось нередко) и пробраться назад к своим, как бедолаге Шухову из «Одного дня Ивана Денисовича» А. Солженицына, чтобы тут же подвергнуться наказанию. Шухову еще повезло: он получил 10 лет в исправительно-трудовом лагере. В книге Светланы Аллилуевой рассказывается о ликвидации Берия целых армейских частей, иногда очень крупных, временно попавших в окружение в 1941 году. Эта линия не менялась на протяжении всей войны: в феврале 1943 года двое рядовых, спасенных своими товарищами из плена, были затем расстреляны на месте. Правда, иной раз карать по всей строгости мешала «правосудию» нехватка квалифицированных кадров. Два летчика, самолеты которых были сбиты за линией фронта, но которым все же удалось вернуться в свою часть, сразу же были отправлены в отдаленный «исправительный лагерь для летчиков» в Алкино, под Уфой. Там их некоторое время держали впроголодь, но хороших летчиков не хватало, и их освободили и вернули в часть. Однако таких счастливчиков было немного. Для тех же, кто попал в руки к немцам и не сумел убежать, предполагалось пропорционально куда более суровое наказание. Эйзенхауэр в своей книге вспоминает, как поразило его объяснение одного советского генерала, что солдаты, сдавшиеся в плен, ни на что не годятся, а потому нечего о них заботиться. По крайней мере в этом вопросе Сталин был последователен. В первый же месяц войны его сын Яков попал в плен под Смоленском. На допросах немецкие офицеры выяснили, что Яков Сталин не верит в возможность победы Германии над СССР, но опасается народного восстания против партийной диктатуры. 19 июля он послал записку отцу, который в ответ на это посадил жену Якова Юлию в тюрьму. Немцы несколько раз пытались обменять Якова сначала на каких-то немцев, застрявших в Иране, затем на фельдмаршала фон Паулюса. Наконец, Гитлер, не чуждый, в отличие от Сталина, родственных чувств, предложил обменять Якова на своего племянника Лео Раубаля, попавшего в плен после поражения под Сталинградом. Сталин ответил отказом, лаконично пояснив: «Война есть война». Однажды, во время прогулки по саду, Сталин рассказал Жукову о том, что немцы склоняют Якова к переходу на их сторону, — но «Яков предпочтет любую смерть измене Родине», — добавил он «твердо». Маршала глубоко тронуло доверие Сталина, но вряд ли он задумался над тем, кто в данной ситуации был предателем. Якова расстреляли.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
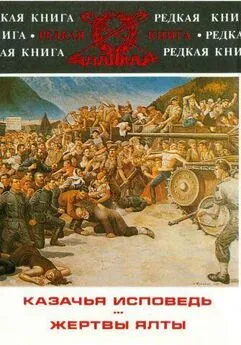

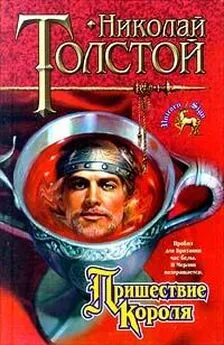
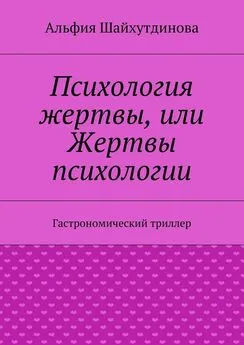
![Николай Толстой - Цари мира [Русский оккультный роман. Т. VIII]](/books/1084094/nikolaj-tolstoj-cari-mira-russkij-okkultnyj-roma.webp)