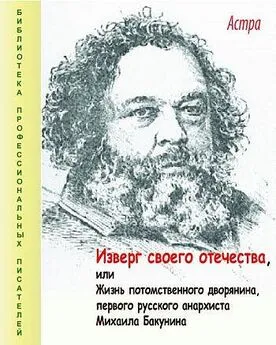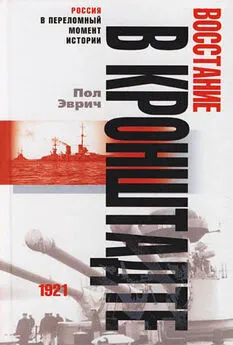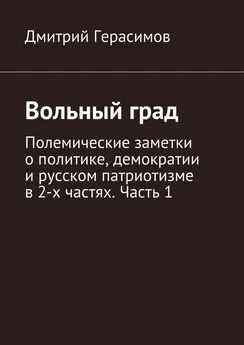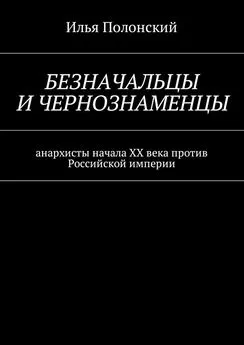Пол Эврич - Русские анархисты. 1905-1917
- Название:Русские анархисты. 1905-1917
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:ЗАО Центрполиграф
- Год:2006
- Город:Москва
- ISBN:5-9524-2512-7
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Пол Эврич - Русские анархисты. 1905-1917 краткое содержание
В книге рассказывается о том, как в начале XX века промышленная революция и социальный хаос вызвали к жизни вооруженное движение анархистов. Традиции русских анархистов представляли собой смесь западных и доморощенных элементов. Пропущенные через призму учений Бакунина, Кропоткина и наивного популизма, они бурно развивались в ходе революций 1905 и 1917 годов. Анархизм в России активизировался и шел на спад вместе с развитием революционного движения в целом. В водовороте восстаний, террористических актов и Гражданской войны анархисты пытались реализовать свою программу, но потерпели поражение, вытесненные с политической арены большевиками.
Русские анархисты. 1905-1917 - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Самая большая угроза этому режиму исходила со стороны крестьянства. Катастрофический голод 1891 года разбудил российское общество и заставил его обратить внимание на то убожество, в котором живет село. Даже после освобождения в деревнях продолжали господствовать перенаселенность и застой. По мере того как число крестьян продолжало расти (одно поколение составляло от 50 до 80 миллионов), средний размер их семейных наделов, которых и без того не хватало на всех членов семьи, неуклонно уменьшался, так что большинство крестьян не могло существовать иначе, чем подрабатывая батраками в сельском хозяйстве или чернорабочими на производстве. Крестьяне отчаянно хотели получить побольше земли и сбросить с плеч давящее бремя налогов и платы за освобождение. Они оставались парализованы ограничениями, налагаемыми общиной, и много лет после того, как царь объявил их свободными людьми. В большинстве мест широко раскиданные полоски плодородной земли перераспределялись каждые два-три года, а устаревшие, но привычные методы обработки почвы не уступали пути современным сельскохозяйственным технологиям. Крестьяне продолжали влачить примитивное существование в однокомнатных деревянных избах с глинобитным полом. Случалось, они делили помещение со своими свиньями и козами, питаясь хлебом, капустной похлебкой и водкой.
Черноземные провинции Центральной России, в свое время цитадель крепостничества, мало изменились и после великого освобождения в феврале 1861 года. В этом перенаселенном районе с убогими наделами земли обнищавшее крестьянство спасалось от голода лишь тем, что издавна занималось кустарным промыслом у себя на дому – выделывало гвозди, ткало мешковину, точило ножи и т. д. Тем не менее ближе к концу столетия спрос на кустарную продукцию резко пошел на спад, не выдержав конкуренции с современными производствами в промышленных городах к северу и западу. Крестьяне, погруженные в бездну отчаяния, могли лишь мрачно взирать на своих бывших хозяев, чьи земли они жаждали заполучить куда больше, чем прежде. В 1901 году некоему помещику из Воронежской губернии привиделось, что его поместье затягивает кровавый туман, и он отметил, что дышать и жить становится все труднее, «как перед бурей». Осенью того же года центральные и южные сельскохозяйственные районы постиг страшный неурожай. Следующей весной крестьяне Полтавской и Харьковской губерний вооружились примитивным оружием времен Стеньки Разина и Емельяна Пугачева – топорами, вилами и факелами – и стали захватывать запасы зерна всюду, где только могли их найти, разорять помещичьи усадьбы в своем районе – пока не явились для наведения порядка правительственные войска.
Ужасные условия жизни крестьянства соответствовали и условиям бытия растущего рабочего класса. Еще вчера крепостные, рабочие теряли корневую связь с родными деревнями, обитая в убогих рабочих слободках больших городов. Они находились во власти грубых надсмотрщиков и черствых директоров фабрик, и их жалкое жалованье обычно становилось еще меньше за счет штрафов, налагаемых за нарушение правил. Не имея никаких законных возможностей отстоять свои права, рабочие лишь с большим трудом привыкали к этому новому образу жизни.
И более того, заводские рабочие страдали кризисом идентичности. Их разрывало между двух направлений: одно тянуло обратно, к привычной деревне, а другое – в странный новый мир, которого они не понимали. В самом начале нового века подавляющее большинство заводских рабочих – особенно на текстильных предприятиях Северной и Центральной России – юридически продолжали считаться крестьянами. Как таковые, они имели в своем хотя бы номинальном владении небольшой участок земли и были вынуждены подчиняться определенным правилам общины, например испрашивать разрешение для работы на фабрике. Такие рабочие-крестьяне часто оставляли в деревнях своих жен и детей, возвращаясь домой только на период уборки или из-за болезни, а также в пожилом возрасте. Их крестьянский образ мышления давал о себе знать спорадическими вспышками возмущения против тяжелых условий труда, но эти выступления больше смахивали на крестьянские бунты прошлого времени, чем на организованный протест зрелого пролетариата.
В то же время рабочие теряли свои связи с селом. Концентрация рабочей силы на российских предприятиях помогала работникам обретать чувство коллективизма, которое все больше и больше замещало прежнюю преданность деревне. Начали излечиваться и исчезать странные формы социальной шизофрении. Рабочий люд рвал со старыми традициями и верованиями и все отчетливее осознавал себя особой социальной группой, отличающейся от крестьянства, из которого он вышел.
Начало нового века нанесло зарождающемуся рабочему классу России экономический удар столь же тяжелый, как и неурожай, поразивший крестьян в Центральном сельскохозяйственном районе. В 1899 году после продолжительного периода индустриального развития царскую империю поразила депрессия, от которой она оправлялась около десяти лет. Первый удар пришелся по текстильной промышленности северных и западных губерний. Затем он стремительно переместился к югу, поражая заводы, шахты, нефтяные концессии и порты и вызывая на своем пути серьезные рабочие волнения. Летом 1903 года на батумских и бакинских нефтепромыслах произошли кровавые столкновения рабочих с полицией. Забастовки в Одессе расширились, превратившись во всеобщую стачку, которая стремительно распространилась по всем центрам тяжелой промышленности Украины. Особый размах она приобрела в Киеве, Харькове, Николаеве и Екатеринославе.
Характерной особенностью волнений в России была гремучая смесь самых разных недовольных социальных элементов, готовая взорваться в любой момент. Например, заводские рабочие были носителями радикальных идей, которых они нахватались в городе, вырвавшись из изолированного, замшелого существования своих родных деревень. Таким же образом важной чертой промышленных стачек на юге было частое появление среди рабочих студентов университета на массовых митингах, уличных демонстрациях и в ходе стычек с властями.
Годы экономического спада совпали с периодом студенческих волнений, которые обрели беспрецедентный в российской истории размах. Многие из студентов чувствовали такую же отчужденность от существующего социального порядка, как и обнищавшие крестьяне и их полупролетарские братья на фабриках. Университетские студенты, как правило, обитали в убогих жилищах, испытывая озлобленность к несправедливостям царского режима. Их отнюдь не воодушевляло неизбежное будущее в виде мелкого винтика в бюрократической машине. Даже те, кто вышел из среды более обеспеченного дворянства, с трудом терпели высокомерие правительственной политики и тупость царских чиновников, которые упрямо отказывались идти хоть на какие-то уступки конституционным принципам. Студенты с глубоким презрением относились к университетскому уставу 1884 года, по которому были распущены их клубы и общества, изгнана либеральная профессура и уничтожена даже видимость автономии университетов и академическая свобода.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: