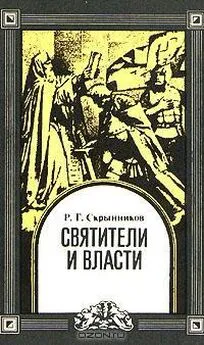Руслан Скрынников - Святители и власти
- Название:Святители и власти
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Лениздат
- Год:1990
- Город:Ленинград
- ISBN:5-289-00565-Х
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Руслан Скрынников - Святители и власти краткое содержание
Книга посвящена поворотным событиям русской истории XIV — начала XVII века — от Куликовской битвы до периода Смуты. В ней исследуется роль духовенства в этих событиях, раскрываются взаимоотношения между светской властью и церковной. Избрав биографический жанр, автор дает яркие жизнеописания выдающихся церковных деятелей России.
Книга принадлежит перу известного историка Р. Г. Скрынникова, автора книг «Иван Грозный», «Борис Годунов», «Минин и Пожарский», «Лихолетье» и др.
Книга рассчитана на самый широкий круг читателей.
Святители и власти - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Определяя ближайшее окружение Максима Грека, исследователи ссылаются обычно на показания его келейника (сожителя по келье) Афанасия. Последний показал на суде, что «прихожи были к Максиму Иван Берсень, князь Иван Токмак, Василей Михайлов сын Тучков, Иван Данилов сын Сабуров, князь Андрей Холмский, Юшко Тютин». Из приведенного перечня следует, что собеседниками философа были немногие лица — исключительно дети боярские. Но такой вывод ошибочен, так как не учитывает особенностей чиновного строя русского общества. Посещение старшими по чину младших могло нанести поруху их чести. В келью Максима могли прийти сыновья окольничих князь Токмак и Тучков, члены Боярской думы — никогда.
Максим Грек поддерживал близкие отношения с Вассианом Патрикеевым, что открывало перед ним двери таких боярских домов, как дом Щенятева, Голицына, Куракина. Казначей Ю. Траханиотов проявлял большой интерес к переводу русских богослужебных книг и не мог избежать знакомства со своим просвещенным земляком. Но келью философа посетил не он, а грек Юшка Тютин. Как и Траханиотов, Тютин по роду деятельности был связан с государевой казной. Однако он не имел думного чина. Крупный дипломат и образованный писатель Федор Карпов обменивался посланиями с Максимом Греком, но среди посетителей чудовской кельи его также не было.
Суд над собеседниками Максима завершился тем, что монарх велел обезглавить Ивана Беклемишева. Сын боярский Петр Муха-Карпов (его допросы не сохранились) угодил в тюрьму. Дьяку Федору Жареному урезали язык.
Максиму довелось предстать перед судом дважды. В первый раз собор на Максима и Савву рассматривал дело об измене «у великого князя на дворе в полате». Затем дело передали в церковный суд, и «соборы многие были у митрополита в полате его лета 7033 (1525) на того Максима в тех хулех о иных, которые прибыли, взыскивавшееся месяца апреля и месяца майя». К ранее предъявленным политическим обвинениям добавились обвинения в ереси. После суда на митрополичьем дворе Максим пропал из Чудова монастыря. С ним решили разделаться без лишнего шума. С. Герберштейн, будучи в Москве в 1526 году, интересовался его судьбой, но узнал немногое. Максимилиан, записал он, как говорят, исчез, а по мнению многих, его утопили. В действительности по приговору церковного суда Грека втайне отправили в ссылку в Иосифо-Волоколамский монастырь. Заточение философа имело главной своей целью пресечение его деятельности как переводчика и писателя. В послании волоцким монахам Даниил подробно и точно изложил приговор церковного суда: «И заключену ему быти в некоей келии молчательне… да не беседует ни с кем же, ни с церковными, ни с простыми, ни монастыря того, ниже иного монастыря мнихи, но ниже писанием глаголати или учити кого или каково мудрования имети… точию в молчании сидети и каятись в своем безумии и еретичестве. Юза ему соборная наложена есть, яко во отлучении и необщении быти ему свершене». Иосиф Санин охотно подписался бы под таким приговором. Узнику его монастыря запрещено было не только писать или общаться с кем бы то ни было — ему запрещено был иметь «мудрствование», иначе говоря, думать. Разрешили же ему лишь вечное покаяние. Участь Максима разделил Савва, в недобрый час принявший от митрополита пост Новоспасского архимандрита. Его сослали в Возмицкий монастырь в Волоколамске.
В конце 1525 года Василий III решил ускорить свой развод с Соломонидой. Митрополит Даниил, добившийся расправы с еретиками-греками, готов был выполнить волю великого князя. 23 ноября власти начали розыск о колдовстве великой княгини Соломониды Сабуровой. Родной брат Соломониды Иван Сабуров дал показания о том, что она держала у себя ворожею Стефаниду и вместе с ней прыскала волшебной заговоренной водой «сорочку, и порты, и чехол, и иное которое платье белое» своего супруга, очевидно, чтобы вернуть его любовь. Василий III имел основание предать жену церковному суду как волхову, но не сделал этого, а 29 ноября приказал увезти ее в девичий Рождественский монастырь на Трубе (на Рву), где ее принудительно постригли в монахини. Сабурова сопротивлялась до последнего момента, и когда ей надели монашеский куколь, она бросила его на землю и растоптала. Чтобы добиться послушания, Шигона Поджогин ударил ее плетью. Не смирившись со своей участью, княгиня-инокиня распустила слух о своей беременности. В распространении этого слуха заподозрили вдову Юрия Траханиотова и жену постельничего Якова Мансурова. Женщины, если верить С. Герберштейну, подтвердили, будто слышали о беременности из уст самой монахини. В гневе Василий III подверг Траханиотову побоям, а старицу Софию поспешили удалить из столицы. Предание о пятилетней ссылке Софии в Каргополь легендарно. Местом заточения ее стал Покровский девичий монастырь в Суздале. В мае 1526 года Василий III пожаловал этому монастырю одно село, а в сентябре — другое. В сентябрьской грамоте значится: «Пожаловал старицу Софию в Суздале своим селом Вышеславским… до ее живота».
После недолгих смотрин великому князю сосватали сироту Елену Глинскую. Дядя невесты князь Михаил переселился в Москву в 1508 году и получил в удел Малый Ярославец. Он оказал великому князю большие услуги при овладении Смоленском, но сразу после этого пытался бежать в Литву, за что был брошен в тюрьму. 21 января 1526 года Василий III отпраздновал свадьбу с Еленой Глинской, и лишь через год Михаил Глинский был выпущен из заточения и получил в удел Стародуб-Ряполовский.
В выборе невесты особую роль сыграли, по-видимому, Захарьины и Шуйские. В дружках у Василия III значился М. Ю. Захарьин, свахой с его стороны была жена Захарьина. Дружками невесты выступали князья М. В. Шуйский и Б. И. Горбатый, ее свахами — жена И. В. Шуйского и вдова Ю. Траханиотова. Великий князь праздновал свадьбу так же, как и правил, — «сам-третей у постели». На свадьбу не попали двое Бельских, Мстиславский, Воротынский, старшие бояре князья М. Д. Щенятев, В. В. и И. В. Шуйские, А. В. Ростовский. В наибольшем числе на пир были приглашены Захарьины. Вместе с боярином М. Ю. Захарьиным пировали его мать, жена, сын, а также двоюродный брат окольничий М. В. Тучков с сыном, окольничие И. В. Ляцкий-Захарьин, В. Яковлев-Захарьин, жена П. Яковлева-Захарьина.
Суд над Максимом не сломил его дух. Философ все еще уповал на помощь старца Вассиана, расправиться с которым у осифлян не было средств. Будучи в монастыре, Максим нисколько не считался с постановлением суда. Он продолжал «мудрствовать», заявлял о своей невиновности.
Даниил вел свою игру, повсюду насаждая своих сторонников. Крупнейшим его успехом явилось назначение на новгородское архиепископство одного из самых способных осифлян — Макария, получившего сан 4 марта 1526 года. В тот же самый день на архиепископство в Ростове был поставлен Кирилл. (До него кафедру занимал Иоанн — преемник Варлаама в Симоновском монастыре, получивший от него сан архиепископа в 1520 году.) Кирилл попытался вмешаться в жизнь заволжских старцев-пустынников и с этой целью направил своих приставов в Нилову пустынь. Однако его действия вызвали резкий протест Вассиана, обратившегося с жалобой к Василию III. 14 сентября 1526 года монарх выдал жалованную грамоту старцам из скита Нила Сорского, подтвердив их неподсудность ростовскому архиепископу.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: