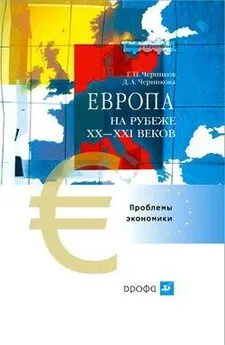Дмитрий Засосов - Повседневная жизнь Петербурга на рубеже XIX— XX веков; Записки очевидцев
- Название:Повседневная жизнь Петербурга на рубеже XIX— XX веков; Записки очевидцев
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Молодая гвардия
- Год:2003
- Город:Москва
- ISBN:5-235-02395-1
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Дмитрий Засосов - Повседневная жизнь Петербурга на рубеже XIX— XX веков; Записки очевидцев краткое содержание
Авторы книги — юрист Д. А. Засосов и инженер-путеец В. И. Пызин — принадлежали к последнему поколению истинных петербуржцев. В их воспоминаниях о жизни, быте и нравах столичного города конца XIX — начала XX века нашел отражение взгляд на Петербург представителей демократической интеллигенции России. Авторы, одаренные наблюдательностью и чувством юмора, увлекательно рассказывают о жизни петербуржцев различных сословий предреволюционной поры.
Книгу дополняют обширные комментарии, которые содержат любопытные сведения из истории Петербурга, и многочисленные иллюстрации.
Повседневная жизнь Петербурга на рубеже XIX— XX веков; Записки очевидцев - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Девушки особых причесок не носили, особенно молоденькие, а ограничивались косой, особенно если волосы были густые и длинные. Поверх косы на затылке — обычно большой черный бант, в театр и на балы — белый. В этих же случаях были приняты локоны (свои завитые или накладные).
Несколько слов о «кисейных барышнях» — термине, вошедшем в литературу. Выходное, бальное платье молодым небогатым девицам было принято шить из белой кисеи. Это было недорого, и такое платье на голубом или розовом чехле делало девицу нарядной, если к тому же прическа с большим белым бантом, белые туфельки и чулки. Если платье было пышное, получался воздушный вид. По талии обычно завязывалась широкая белая лента, на спине из этой же ленты делался большой бант. Руки обычно были открыты, делалось маленькое декольте [327] .
Как уже сказано в начале главы, проследить изменение моды трудно. Можно наметить лишь тенденцию изменения силуэта. К концу периода, обозначенного в названии книги, рельефность фигуры дамы, подчеркнутость талии стали выходить из моды. На смену появился английский скромный стиль [328] с прямыми линиями, без подчеркивания нарядности, — мода, склонная к простоте, избегающая многочисленных украшений, выродившаяся в десятые годы уже в стиль модерн, с узкими юбками и громадными шляпами.
Казалось бы, что проще всего составить себе представление о моде по туалету артисток, выступающих на концертах, на эстраде. Действительно, они всей душой стремились воплотить моду в своих костюмах. Но это — путь опасный. Не говоря уже об утрировании, что свойственно артистам, не всегда певица, арфистка или пианистка обладала чувством меры и вкусом. Во-вторых, изготовление туалета всегда связано с затратой больших средств, тем более что выйти на сцену в одном и том же платье два-три раза уже считалось неудобным. Конечно, такая певица, как Вяльцева, бывавшая с выступлениями в аристократических кругах, вполне обладала и вкусом, и сдержанностью в выборе туалета. Другие же, если не догадывались посоветоваться с обладательницей вкуса и такта, часто допускали вульгарность в наряде, ошибочно считая блеск камней (иной раз и фальшивых) основным средством украшения наряда. Иной раз эстрадная актриса выглядела почти пародией на пышно разодетую купчиху, к тому же чрезмерно пользовалась косметикой.
И все же модный силуэт дамского наряда ими всеми чутьем угадывался правильно. Считалось допустимым для них и некоторое тактичное утрирование, если оно художественно. Например, шлейф [329] , постепенно уходивший в прошлое, к десятым годам нашего века, возможный разве что на особо званых балах, на свадьбах (у невесты обязательно), у певицы, выступающей в концерте Дворянского собрания, консерватории, был вполне допустим. Но он требовал и соответствующей прически и обуви. Доставлялась такая красавица зимой в ротонде [330] , которую набрасывали, а не надевали, и с шалью на голове вместо шляпы, чтобы не смять туалета.
То же касается и цилиндра, ставшего архаичным в обиходе мужчин. Артистический мир сохранил его до самой революции. Вертинский выступал со своими песенками в цилиндре, когда сменил свой костюм Пьеро [331] на светский фрак. Наличие этого головного убора требовало, конечно, полного соответствия в облике с головы до ног — прически, галстука, туфель. Цилиндр надевали и дирижеры открытых эстрад.
* * *
Контрасты были повсюду, во всех областях жизни «последнего» Петербурга. Контрасты были и в одежде людей. В Петербурге можно было встретить оборванного работягу в лаптях, который пришел на заработки из деревни, и изысканно, роскошно, по последней парижской моде одетых людей, о которых рассказано выше.
Приезжая из деревни в сермяге [332] , в домотканом платье, подчас даже в лаптях, с мешком за плечами, в углу которого зашита луковица для удержания петли-лямки, рабочий как можно скорее старался приодеться по-городскому, приобрести картуз с лакированным козырьком, темного цвета пиджак и брюки, а то и всю тройку и обязательно высокие сапоги. Рабочий люд всегда ходил в высоких сапогах. Большинство галош не носили. Считалось, что брюки навыпуск — это как-то несолидно. Высокие сапоги считались предметом заботы не только потому, что отвечали эстетическим принципам рабочего человека, но и ввиду того, что в них удобно было на работе: не пачкались брюки при работе в грязи, ступни ног были защищены от неизбежных ударов при тяжелой работе, ведь ноги обертывались под сапог толстой портянкой. Когда рабочий уже пообжился, он приобретал еще другие, выходные сапоги из хрома с лакированными голенищами. Они так и назывались — русские сапоги. Считалось особенным шиком, чтобы выходные сапоги были «со скрипом». Отвечая этим пожеланиям, сапожники прибегали к такому ухищрению: между стелькой и подметкой закладывали сухую бересту, и сапоги начинали скрипеть [333] .
Рабочий народ, как правило, носил рубашки-косоворотки разных цветов. Особенно приняты были черные рубашки, как менее маркие. Поверх рубашки носили жилетку без всякого пиджака [334] . Рубашка часто, особенно у пожилых, оставалась навыпуск. Особенное тяготение к жилетке наблюдалось у только что приехавших из деревни. Старую жилетку можно было купить на толкучке копеек за 50–60. Наденет паренек такую жилетку и почувствует себя уже городским.
На холодное время приобретались шерстяные фуфайки, шапки, толстые брюки, ватные пиджаки. Сапоги оставались, редко кто носил валенки. Длинные пальто рабочие носили мало: они стесняли их движения. Нагольные полушубки носить стеснялись, черненые были в большем ходу [335] . Надо сказать, что, как общее правило, одежды от завода, фабрики или просто хозяина не полагалось, разве только в специальных цехах. Поэтому рабочему человеку приходилось все вещи покупать на свои деньги: в зависимости от их количества либо старые или подержанные — на толкучке в Александровском рынке, либо новые, подешевле, в лавках, открываемых возле больших предприятий. У больших заводов в дни получек открывался своеобразный базар «на ногах»: приходили торговцы с разными товарами, обувью и одеждой на всякую цену. Тут же, на улице, все это и примерялось. Окружающие принимали участие в покупке своими советами: кто хвалил, кто хаял товар, сбивая с толку покупателя и «купца».
Высококвалифицированные рабочие ходили на работу также в высоких сапогах и простой одежде, а «на выход» носили хорошие тройки, рубашки с галстуком, брюки навыпуск и даже сюртуки. Носили пальто, зимнее на меху, и хорошую меховую шапку. Рабочие попроще носили шапку-ушанку, а после первой революции — чаще папаху [336] . Фуражка с лакированным козырьком уступила место кепке.
Женщины-работницы носили ситцевые платья, на работу обычно темные. На производстве надевали сверху халатик или передник. Выходные платья старались приобрести шерстяные. На улице в холодную и прохладную погоду носили короткие на ватине кофты, позже — более длинные саки. Не обремененные семьей работницы копили деньги на приобретение плюшевого сака с аграмантами. Ноги обували в прюнелевые ботинки — самую дешевую женскую обувь. В сырую погоду поверх надевали галоши. По праздникам прюнелевые башмаки заменялись кожаными туфлями или полусапожками на пуговках. Для застегивания пуговиц употреблялись специальные крючки [337] .
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: