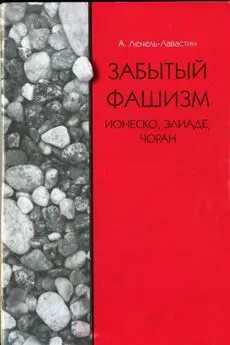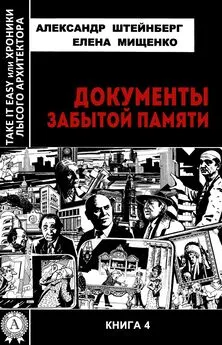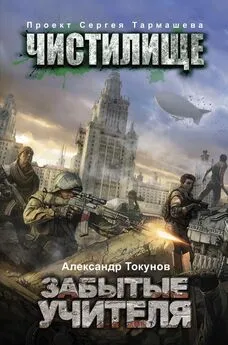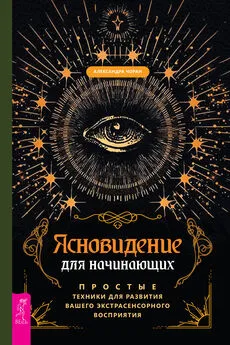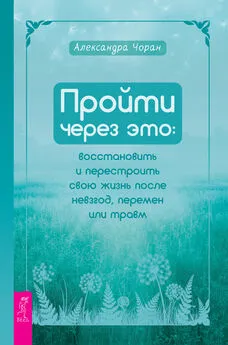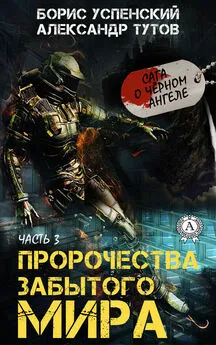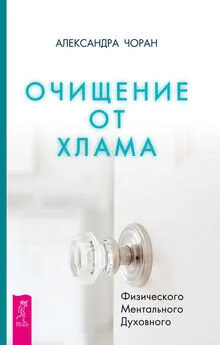Александра Ленель-Лавастин - Забытый фашизм: Ионеско, Элиаде, Чоран
- Название:Забытый фашизм: Ионеско, Элиаде, Чоран
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Прогресс-Традиция
- Год:2007
- Город:Москва
- ISBN:5-89826-270-9
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Александра Ленель-Лавастин - Забытый фашизм: Ионеско, Элиаде, Чоран краткое содержание
Национальный вопрос особенно болезнен для стран, претерпевших национальное унижение. Таким унижением было поражение фашистской Румынии во Второй мировой войне. Одним из способов восстановления национального престижа является воздвижение на пьедестал исторических героев нации. Для Румынии ими стали выдающийся ученый М. Элиаде, известный публицист Э. Чоран и драматург с мировым именем Э. Ионеско.
Автор книги, не умаляя их профессиональных заслуг, сосредоточивает внимание на социально-политических взглядах, гражданской позиции в трагичные для страны годы фашизма. Доказывая на огромном фактическом материале их профашистские настроения, А. Ленель-Лавастин предостерегает современные поколения от некритической эйфории в отношении «великих румын», способной объективно привести к поддержке обретающего силу неофашизма.
Книга написана живым, ярким, нередко полемичным языком и предназначена для широкого круга читателей.
Забытый фашизм: Ионеско, Элиаде, Чоран - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
По завершении нескольких мучительных месяцев в армии Чоран переживает поистине уникальный для своей биографии период: в первый и последний раз в жизни он «работает». Он принят на 1936/37 учебный год преподавателем философии в лицей им. Андрея Сагуны в Брашове. Перед этим Чоран сдавал экзамен на право занятия преподавательской деятельностью и выдержал его первым среди экзаменующихся. Эти годы были исключительно плодотворными: он написал подряд три больших работы — в 1936 г. «Книгу обманов» и «Преображение Румынии». В 1937 г. было опубликовано его знаменитое эссе о религии «Слезы и святые», которое, как и предыдущие работы, вызвало среди читателей шок. Оно, кстати, совершенно не понравилось его другу Мирче Элиаде, в тот момент переживавшему пик увлечения легионерским православием. В исключительно неблагоприятной рецензии («Vremea» 16.1.1939) Элиаде приводил Чорана как трагический пример тех крайностей, до которых могут довести «тушение в собственном соку», страсть к парадоксу и поношениям.
По свидетельству самого Чорана, в лицее за ним быстро закрепилась репутация слабоумного. Его ученики вовсе не считали его анекдотическим персонажем. Их отношение дает возможность измерить масштабы его известности в момент публикации «Преображения», которое имело для его творчества такое же значение, как «Обращение к немецкой нации» — для творчества Фихте. Приведем свидетельство писателя Стефана Бачу, в выпускном классе учившегося у Чорана. Бывший ученик вспоминает о его первом появлении. Это случилось солнечным сентябрьским утром. Дверь класса отворилась, и вошел новый преподаватель философии и логики. Это был «сам» Эмил Чоран, чьи эссе уже были знакомы его будущим ученикам. Большинство из них считало его «ужасным ребенком» Молодого поколения. Было также известно, что он стал лауреатом первой премии Королевских фондов в 1934 г. и был лучшим среди сдавших экзамен на право занятий преподавательской деятельностью. «Войдя в класс, Чоран был встречен шквалом аплодисментов. Новый преподаватель, немного смутившись, слегка поклонился, а затем после небольшой паузы произнес слова, запомнившиеся мне на всю жизнь: «Вместо того чтобы мне аплодировать, спойте лучше «Похоронный марш» Шопена. Быть первым по результатам экзамена на профессию — стыдно». Наступило долгое молчание, прерванное кем-то с «Камчатки»: «Долой первых!» Чоран улыбнулся и поблагодарил. Это был молодой человек 27 лет, одетый строго и элегантно: на нем были серый костюм, синий галстук, белоснежная рубашка и черные башмаки. Платочек, выглядывавший из кармана пиджака, придавал ему вид денди: он смотрелся как настоящий Господин из Трансильвании» [282] Buciu S. Un professeur de lycée dénommé Emil Cioran // Pour et contre Emil Cioran. Entre idolâtrie et pamphlet. Bucarest, 1998. P. 365. (текст написан Бачу в марте 1989 г.).
.
Постепенно, вспоминает Бачу, вокруг Чорана образовался кружок приверженцев, собиравшихся вокруг него на переменах. Первый скандал разразился после публикации эссе «Слезы и святые». У автора было очень мало экземпляров книги, и он не знал, кому в лицее он должен был ее подарить в первую очередь. В конце концов он подарил один из экземпляров привратнику, знаменитому г-ну Иону, со следующим посвящением: «Неня Иону со всем моим почтением». В результате все преподаватели тут же почувствовали себя оскорбленными. Среди молодежи относиться к числу учеников Чорана считалось очень почетно — как быть награжденным орденом. Хуже оказалось со сдачей выпускного экзамена. Когда автору цитируемых воспоминаний был задан вопрос, знает ли он, что такое этика, тот ответил: «По мнению нашего преподавателя философии, этики не существует!» — за что и получил 5 баллов из 20 возможных.
Два года, последовавших за возвращением Чорана из Германии, стали периодом наивысшей популярности Легионерского движения. В это время действительно этика Чорана основывалась на четырех основных принципах: покончить с демократией, установить в Румынии тоталитарный режим, пробудить политическое сознание молодежи и убедить ее, что единственный путь к спасению — жертва, «иррациональное самозабвение ради нации» и «мистическая групповая солидарность» [283] Cioran Е. La conscience politique de la jeunesse estudiantine // Vremea, 15 нояб. 1936; Le sacrifice des masses // Vremea , 5 апр. 1936.
. В начале 1936 учебного года профессор Чоран проповедовал также культ отказа от культуры. Он провозглашал: библиотеки более не способны спасти молодое поколение. И восхвалял с энтузиазмом «революционную душу студенческой молодежи», намекая тем самым на многочисленных студентов, вступивших в Железную гвардию. «Наши студенты не слишком начитанны», — отмечал он, да это было и неважно. «Боевитая студенческая молодежь, движимая организованной волей к захвату власти, стоит гораздо больше, чем прилежные студиозусы, глухие к призыву истории» [284] Cioran Е. La conscience politique de la jeunesse estudiantine, op. cit.
.
Таково, следовательно, решение, которое предлагает обогащенный немецким опытом мыслитель по возвращении в страну в целой серии статей (их не менее дюжины), опубликованных в крайне антисемитской газете « Vremea », преданной Железной гвардии. Время неуверенных высказываний, неясных лозунгов явно миновало: «Желать сохранить нашу жизнь в ее сегодняшнем виде — такую жизнь, где мы не живем, а ведем растительное существование, — означает лишить наш народ права выполнить свою историческую миссию» [285] Cioran E. La liquidation de la démocratie, op. cit.
. Для излечения от балканской болезни необходимо всего лишь «упростить сложный политический аппарат и уничтожить все, что мешает Румынии стать сильной» [286] Cioran E. Notre vide collectif, op. cit.
.
Каковы же были в то время реальные отношения, связывавшие философа с Железной гвардией? Такой вопрос задавал Чорану Франсуа Бонди в 1972 г. Чоран, верный своей обычной стратегии, разумеется, отрицал, что когда-либо разделял идеологию Железной гвардии. Это полностью противоречило фактам, но его собеседник не мог ничего проверить. Весьма показательной, однако, выглядела попытка Чорана представить Железную гвардию своеобразной «сектой» (хитрость, позаимствованная им у Элиаде). Причем сектой сумасшедших , которая — странный аргумент! — сплошь состояла из лиц, вообще не относившихся к румынскому этносу. Так, отвечая на вопрос, «сочувствовал» ли он Железной гвардии, Чоран с самого начала фактически уклонился от ответа: «Железная гвардия, в которой я никогда не состоял...» Далее он подчеркнул, что эта организация представляла собой «очень странное явление». Однако читателям следовало успокоиться: «Ее вождь Кодряну на самом деле был славянин, напоминавший скорее генерала украинской армии. Коммандос вербовались преимущественно из числа македонских эмигрантов; вообще, гвардия состояла главным образом из представителей народов, окружавших Румынию». Весьма смелое заявление, если учитывать, что речь шла об организации, отличавшейся именно крайней ксенофобией, программа которой настаивала на изгнании с территории страны «инородцев» (лиц, этнически не являвшихся румынами). Далее, по-видимому посчитав, что недостаточно свалил вину на чужаков, и вдохновленный отсутствием возражений со стороны собеседника, Чоран решил прибегнуть к органической метафоре из области социальной патологии: «Как о раке говорят, что это не болезнь, а совокупность болезней, так и Железная гвардия представляла собой совокупность движений. Это была скорее секта сумасшедших, чем партия. Там больше говорилось об обаянии смерти, чем о национальном возрождении» [287] Cioran Е. Entretien avec Lea Vergine, op. cit. P. 12.
.
Интервал:
Закладка: