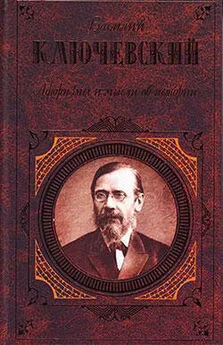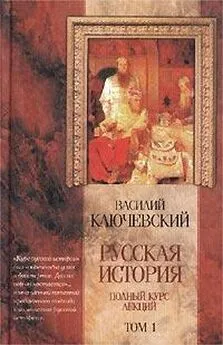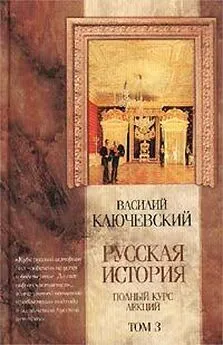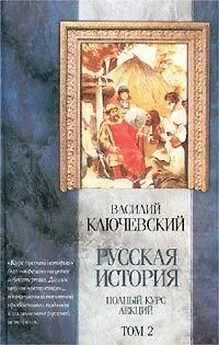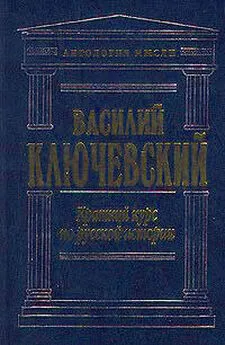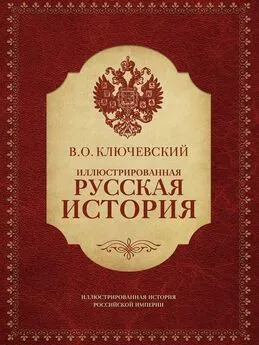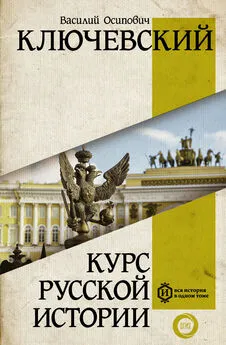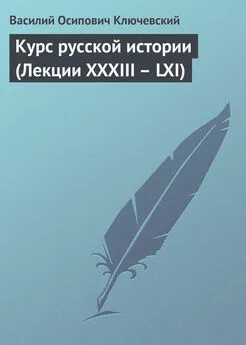Василий Ключевский - Афоризмы и мысли об истории
- Название:Афоризмы и мысли об истории
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Василий Ключевский - Афоризмы и мысли об истории краткое содержание
Василий Осипович Ключевский — выдающийся русский историк, академик, профессор Московского университета и Московской духовной академии, создатель научной школы — писал о событиях и фактах российской действительности увлекательно и доступно. Исторические портреты, дневники и афоризмы ученого — блестящего мастера слова — отражают его размышления о науке, жизни, человеческих достоинствах и недостатках.
«В жизни ученого и писателя главные биографические факты — книги, важнейшие события — мысли» — это высказывание В.О.Ключевского подтверждает вся его жизнь.
Афоризмы и мысли об истории - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
2)
Россия XVII в. со своей широко раскрытой научной любознательностью и со скудной умственной емкостью. Какая преобраз[овательная] суетня, какая толпа новых идей и какая ветошь нравов и порядков, какое ничтожество результатов! Таракан на спине.
Дворянство — «верноподданные бунтари». Оно привыкло окружать престол с вечно протянутой рукой попрошайки и трясти его за неподатливость.
Самодержавие — не власть, а задача, т.е. не право, а ответственность. Задача в том, чтобы единоличная власть делала для народного блага то, чего не в силах сделать сам народ чрез свои органы. Ответственность в том, что одно лицо несет ответственность за все неудачи в достижении народного блага. Самодержавие есть счастливая узурпация, единственное политическое оправдание которой непрерывный успех или постоянное уменье поправлять свои ошибки или несчастия. Неудачное самодержавие перестает быть законным. В этом смысле единственным самодержцем в нашей истории был Петр В[еликий]. Правление, сопровождающееся Нарвами без Полтав, есть nonsense [8] бессмыслица ( англ .).
.
При Ек[атерине] II когти прав[итель]ства остались те же волчьи когти, но они стали гладить по народной коже тыльной стороной, и добродушный народ подумал, что его гладит чадолюбивая мать.
Нет ничего бесцельнее, как судить или лечить трупы: их велено только закапывать.
Вы как щенки, которые потому, что у них чешутся зубы, грызут все, что им попадается, даже собственный хвост. Они стали бы грызть и свои головы, если бы умели, да не умеют. А вы умеете, поэтому не могу признать вас щенками.
53.
Мысль стала развязнее, не сделавшись деловитее.
Мы много передумали, о чем прежде никто у нас не думал; но то, до чего мы додумались, было чистое знание без практического приложения. Мы стали более знающими, но еще не успели стать более умелыми. Мы привыкли смотреть на общественный порядок с фасада, какой показывало нам начальство, а теперь нам позволили, даже предписали заглянуть на него с заднего крыльца: мы увидели, как строится он, на чем держится и чем движется. Узнать — это значит узнать много, но нужно еще больше подумать, чтобы суметь воспользоваться этим знаньем, выучиться строить и двигать общественный порядок. С большим грузом знания, но с прежними недостатками уменья мы стали резонерами, не сделавшись дельцами. Вот почему наши проекты умнее наших действий, почему мы лучше рассуждаем в гостиных, чем действуем в собраниях, почему мы умно спрашиваем и глупо отвечаем. Мы — музыканты, отвыкшие играть вследствие привычки размышлять о музыке.
Славянофильство — история двух-трех гостиных в Москве и двух-[трех] дел в московской полиции.
Ист[ория] смотрит не на человека, а на общество.
В админ[истративной] опеке печати нет цели, есть только дурная привычка.
Чутье своевременности. Сколько прекрасных идеалов скомпрометировано вследствие недостатка сего чутья!
Застой и порывистость. […]
В общество несем лучшие манеры и худшие чувства, в семью дома — наоборот. […]
28 марта
В Европе царей Р[оссия] могла иметь силу, даже решающую; в Европе народов она — толстое бревно, прибиваемое к берегу потоком народной культуры. Когда в международной борьбе к массе и мускульной силе присоединилась общественная энергия и техническое творчество ломившейся вперед России, где этих новых двигателей не было заготовлено, пришлось остановиться и только отбиваться, чтобы не отступать.
Общ[ность] желудка и пр.; все кушают сообща, но варят своими индивид[уальными] жел[удка]ми.
Нахальное бессилие.
54.
Чем меньше слов, тем больше филологии, потому что любить слово значит не злоупотреблять им. Лапидарный стиль. Ученый, познакомивший Европу с русскими античными надписями, — каменный мост между новой Россией и древней Грецией. На русских камнях греческие надписи: «За р[усскую] фил[ологию], познаком[ившую] Евр[опу] с Грецией, надписями на русск[их] камнях». Лучший филол[огический] стиль — лапидарный.
Легче истолковать чувство без слов, чем слова без чувств.
Дети играют во взрослых, а не в самих себя, потому считают себя старше своих кукол, признают их своими детьми и в качестве матерей наказывают, а не считают своими матерями, потому что они не могут наказывать их. Можно шутить над собой, но нельзя играть собой.
В истории русской жизни есть столько и таких незатронутых вопросов, что затронуть их составит славу тех, кто их только затронет, хотя и не решит.
Меня отпевают и даже готовят мне памятник. Но я еще не умер и даже не собрался умирать. Напротив, я жить хочу или по крайней мере долго умирать, но не скоро умереть. Поэтому за Ваше здоровье.
Реформаторы 60-х годов очень любили свои идеалы, но не знали психологии своего времени, и потому их дух не сошелся с душой времени.
55.
Этика и эстетика
Зап[адная] Европа и Россия — социализм и капитализм.
Высший момент — наслаждение собственной мыслью, победившей природу.
Искусство — слуга не воли, а мысли, не практики, а науки.
Выплывут, плывя отдельно, но утонут оба, решившись спасать друг друга.
Будем ходить в театр, чтобы возвращаться домой веселыми и уравновешенными, и покинем самообольщение, что воротимся оттуда добродетельными. Не будем смешивать театр с церковию, ибо труднее балаган сделать церковию, чем церковь превратить в балаган. Театралы от этого не выиграют, но молельщики проиграют: первые, оставаясь театралами, не станут молельщиками, но вторые перестанут быть ими, не став театралами.
17 января 1894 г.
Сердце женщины — белый лист бумаги: на нем никогда ничего не прочтешь, но что угодно напишешь, если умеешь писать на таком веществе.
В школе надо повторять уроки, чтобы хорошо помнить их; в жизни надо хорошо помнить ошибки, чтобы не повторять их.
Вся житейская наука женщины состоит из трех незнаний: сначала она не знает, где добыть жениха, потом — как быть с мужем, наконец — куда сбыть детей.
Находят сходство у Толстого с Мопассаном. Но заметнее разница: последний потерял ум, не зная, куда девать его; первый вечно ищет своего ума, позабыв, куда девал его.
Какая разница между романистом и психологом? Первый, изображая чужие души, рисует свою; второй, изучая свою душу, думает, что наблюдает чужие. Романист похож на человека, который видит во сне самого себя, а психолог — на человека, который подслушивает шум в чужих ушах.
Исторические портреты и очерки
Значение преподобного Сергия для русского народа и государства
Когда вместе с разнообразной, набожно крестящейся народной волной вступаешь в ворота Сергиевой Лавры, иногда думаешь: почему в этой обители нет и не было особого наблюдателя, подобного древнерусскому летописцу, который спокойным неизменным взглядом наблюдал и ровной бесстрастной рукой записывал, «еже содеяся в Русской земле», и делал это одинаково из года в год, из века в век, как будто это был один и тот же человек, не умиравший целые столетия? Такой бессменный и не умирающий наблюдатель рассказал бы, какие люди приходили в течение 500 лет поклониться гробу преподобного Сергия и с какими помыслами и чувствами возвращались отсюда во все концы Русской земли. Между прочим он объяснил бы нам, как это случилось, что состав общества, непрерывною волной притекавшего ко гробу преподобного, в течение пяти веков оставался неизменным. Еще при жизни преподобного, как рассказывает его жизнеописатель-современник, многое множество приходило к нему из различных стран и городов, и в числе приходивших были и иноки, и князья, и вельможи, и простые люди, «на селе живущие». И в наши дни люди всех классов русского общества притекают к гробу преподобного со своими думами, мольбами и упованиями, государственные деятели приходят в трудные переломы народной жизни, простые люди в печальные или радостные минуты своего частного существования. И этот приток не изменился в течение веков, несмотря на неоднократные и глубокие перемены в строе и настроении русского общества: старые понятия иссякали, новые пробивались или наплывали, а чувства и верования, которые влекли сюда людей со всех концов Русской земли, бьют до сих пор тем же свежим ключом, как били в XIV в. Если бы возможно было воспроизвести писанием все, что соединилось с памятью преподобного, что в эти 500 лет было молчаливо передумано и перечувствовано пред его гробом миллионами умов и сердец, это писание было бы полной глубокого содержания историей нашей всенародной политической и нравственной жизни.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: