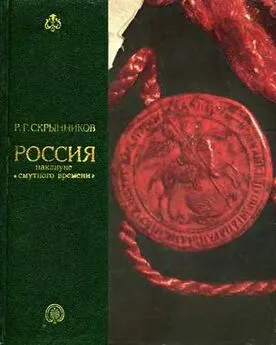Руслан Скрынников - Россия накануне смутного времени
- Название:Россия накануне смутного времени
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Мысль
- Год:1981
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Руслан Скрынников - Россия накануне смутного времени краткое содержание
Монография доктора исторических наук Р. Г. Скрынникова посвящена переломному периоду русской истории, подготовившему «смуту». Тщательная критика источников позволяет автору раскрыть механизм закрепощения крестьян и воссоздать политические коллизии, сопутствовавшие рождению крепостнического режима. В центре повествования — противоречивая фигура Бориса Годунова, с именем которого тесно связаны социальные нововведения тех лет. Особое внимание уделено земским соборам и становлению элементов сословного представительства в России.
Россия накануне смутного времени - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Начавшееся крушение «двора» едва не увлекло Годуновых в пропасть. В дни восстания народ требовал отставки не только Б. Я. Бельского, но и Б. Ф. Годунова. В конце мая 1584 г. английский посол писал, что Годунов не пользуется авторитетом в Москве [60] ЧОИДР, 1884, кн. IV, отд. III, с. 101.
. Однако ко дню коронации Годунов получил чин конюшего [61] Опубликованный список (вероятно, черновой) «Чина венчания царя Федора» был составлен, очевидно, до избрания конюшего, так как в нем определялись обязанности конюшего (нести скипетр), но не называлось его имя, для которого в тексте был оставлен пробел. В день коронации скипетр перед царем нес Борис (СГГД, ч. 2. М., 1819, № 51, с. 73; Горсей Д. Записки, с. 111).
. Едва ли можно сомневаться в том, что без поддержки Н. Р. Юрьева с его неограниченным влиянием на Федора и весом в Боярской думе Борис не смог бы получить высший в думе боярский чин.
В свое время царь Иван, разгромив «заговор» князей Старицких, упразднил высшую боярскую должность конюшего. Но о ней вспомнили после смерти царевича Ивана. Толки подобного рода впервые подслушал в боярской среде пронырливый иезуит А. Поссевино, посетивший Москву в начале 1582 г. Ввиду возможной смерти бездетного Федора, записал он, царя крайне тревожит будущее династии, потому что в его роде уже никого не осталось и более 30 лет не занято место конюшего, на которого (как на конюшего) эта власть должна перейти. Приведенное сообщение итальянского дипломата не отличается вразумительностью. Им можно было бы пренебречь, если бы оно не имело одной поразительной аналогии в источниках московского происхождения. Известный знаток московских традиций Г. Котошихин писал о чине конюшего буквально то же самое, что и Поссевино: «А кто бывает конюшим, и тот первый боярин чином и честью, и, когда у царя после его смерти не останется наследия, кому быть царем, кроме того конюшего, иному царем быти некому, учинили бы его царем и без обирания» [62] Historia Russia monumenta, t. I. Спб., 1841, с. 293; Котошихин Г. О России в царствование Алексея Михайловича. Спб., 1906, с. 81.
. С чином конюшего, как видно, была связана некая старинная традиция. В силу ее в случае пресечения династии вся полнота власти в Московском царстве переходила к думе в лице первого из бояр — конюшего.
Вопрос о кандидатуре на вакантную должность конюшего неизбежно должен был вызвать резкие столкновения в опекунском совете. В конце концов при поддержке Н. Р. Юрьева пост конюшего занял шурин царя Федора Борис Годунов. Это назначение, проведенное вопреки ясно выраженной воле Грозного, ввело бывшего «дворового» боярина Годунова в круг правителей государства [63] Исключительное положение Б. Ф. Годунова как конюшего боярина подчеркивалось тем, что на официальных дипломатических приемах он занимал место возле царского трона (ЦГАДА, ф. 79, кн. 15, л. 409).
. Многие обстоятельства побуждали земское правительство искать поддержки «дворовых» людей. При Иване IV «двор» служил опорой и воплощением личной власти царя. Смерть Грозного не привела к мгновенному исчезновению «двора» как военной силы. Старания царя Ивана, вложившего много сил в организацию «дворовой» службы, не пропали бесследно. На «дворовой» службе состояли проверенные люди, преданность которых царской фамилии подкреплялась обширными привилегиями. «Дворовые» стрельцы и дворяне были призваны обеспечить безопасность нового царя и его ближайшего окружения.
Несмотря на то что первые волнения в Москве улеглись, ситуация в столице оставалась крайне напряженной. С наступлением лета участились пожары. По словам очевидцев, царская столица была наполнена «разбойниками», которых считали главными виновниками поджогов. Власти ждали нового мятежа со дня на день. В страхе перед народом правительство было вынуждено принять экстренные военные меры. Они получили отражение в следующей записи Разрядного приказа: «Того же году (7092. — Р. С. ) на Москве летом были в обозе да в головах для пожару и для всякого воровства в Кремле князь Иван Самсонович Туренин да Григорий Никитич Борисов-Бороздин, в Китае — Богдан Иванович Полев и Константин Дмитриевич Поливанов, в Земляном городе — Иван Федорович Крюк-Колычев» [64] Письмо Л. Сапеги из Москвы 10 июля 1584 г. — Historia Russia monumenta, t. II, p. 2–3; ГИМ, Щукинское собр., № 496, с 79.
. Приведенная запись интересна тем, что она показывает, в чьих руках находилась в то время реальная военная сила. В Кремле военное командование осуществлял князь И. С. Туренин, родня Б. Ф. Годунова; в Китай-городе стражей ведали Б. И. Полев и К. Д. Поливанов, бывшие «дворовые» люди и сподвижники Годунова; только на окраине, в Земляном городе, распоряжался известный воевода И. Ф. Колычев, сторонник Шуйских.
Положение в столице усугублялось абсолютной неавторитетностью царя и открытыми разногласиями среди его опекунов. Прибывшие в Москву литовские послы воочию убедились в том, что московские правители, назначенные покойным Иваном IV, находились между собой в величайшем несогласии и очень часто спорили в присутствии самого Федора без всякого уважения к нему [65] Historia Russia monumenta, t. II, N VIII, p. 7.
. Разногласия в верхах могли привести к непредвиденным последствиям в условиях, когда из-за катастрофической разрухи и военного поражения настроения недовольства широко затронули низшие слои дворянства — наиболее массовую опору монархии.
В конце Ливонской войны в Польше постоянно циркулировали слухи о том, что царь Иван боится возмущения своих подданных, ненавидевших его за жестокость, что с минуты на минуту в Москве может вспыхнуть мятеж против царя и т. п. [66] Письмо Каллигари от 6 сентября 1579 г. — Historia Russia monumenta, t. I, p. 286; Пирлинг П . Россия и папский престол. М., 1912, с. 443.
Волнения предсказывали в 1579 г., во время первого похода Батория. В апреле 1582 г. в Стокгольме распространился слух, будто царь умер либо взят под стражу боярами, а в Москве произошло восстание [67] Acta historica res gestas poloniae illustranta. Cracoviae, 1887, p. 371. Впервые этот факт установил Б. Н. Флоря.
. Слухи подобного рода были преждевременными. В последние годы правления Грозного во всех слоях населения зрело недовольство, но антагонизм вырвался наружу уже после смерти царя.
В апрельских волнениях 1584 г. активно участвовали не только посадские [68] Пискаревский летописец, с. 87.
, но и мелкие служилые люди [69] ГИМ, Летописец, № 2524/42797, л. 75 об.
. Новые власти искали способы удовлетворить недовольное дворянство и с этой целью уже в июле 1584 г. начали разрабатывать финансовые меры, которые шли навстречу требованиям дворянства и могли послужить поворотным пунктом развития. 20 июля 1584 г. правительство добилось от Боярской думы одобрения Уложения о «тарханах». Закон прошел через думу в обстановке самых острых разногласий. 10 июля литовский посол Л. Сапега сообщил из Москвы, что разногласиям и междоусобицам у московитов нет конца: «…вот и сегодня я слышал, что между ними возникли большие споры, которые едва не вылились во взаимное убийство и пролитие крови…» [70] Historia Russia monumenta, t. II, p. 2–3.
Интервал:
Закладка: