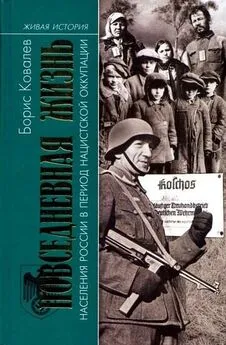Борис Григорьев - Повседневная жизнь царских дипломатов в XIX веке
- Название:Повседневная жизнь царских дипломатов в XIX веке
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Молодая гвардия
- Год:2010
- Город:Москва
- ISBN:978-5-235-03248-4
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Борис Григорьев - Повседневная жизнь царских дипломатов в XIX веке краткое содержание
В этой книге, охватывающей период расцвета дипломатии Российской империи (XIX век и начало XX века), автор, привлекая богатый архивный материал, показывает практически все сферы дипломатической деятельности, благодаря чему читатель может прикоснуться к повседневной жизни чиновников консульств, миссий и посольств, побывать на дипломатических приёмах и переговорах, познакомиться с основными понятиями этой увлекательной сферы деятельности.
Повседневная жизнь царских дипломатов в XIX веке - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
С. В. Чиркин, встречавшийся с Чоковым в Коломбо, характеризует его как высокомерного типа, самодура и кутилу, устраивавшего на своей русской тройке бешеные гонки по улицам цейлонской столицы на страх разбегавшимся в разные стороны её жителям. Чоков, по мнению Чиркина, запутался в денежных делах и застрелился.
Следующий эпизод из повседневной жизни консульских служащих может кому-то показаться скучным, но он наглядно иллюстрирует, с какими личными проблемами сталкивались царские дипломаты, находясь далеко от родины.
В начале июня 1902 года консул в Рущуке (Турция) Н. А. Налётов обратился в Департамент личного состава и хозяйственных дел с прошением содействовать внесению его детей в дворянскую родословную книгу и получению на них дворянского свидетельства. За время отсутствия в России у него родились две дочери, и необходимо было подтвердить их право на дворянство — автоматически это не происходило.
Лучше бы он не начинал этой процедуры, ибо она превратилась в настоящую волокиту. Положение усугубляло то, что проситель находился за пределами России, а все его личные документы находились на хранении в ДЛСиХД. Поэтому основное время заняла переписка между Петербургом и Рущуком.
Департамент личного состава и хозяйственных дел вежливо «отфутболил» консула, заявив, что брать на себя хлопоты по такому делу не желает и сказать, какие документы понадобятся для удовлетворительного его завершения, тоже не может, а потому порекомендовал просителю обратиться непосредственно в Департамент герольдии. Единственное, в чём департамент мог помочь Налётову, это выслать в Рущук перечень его личных документов, оставленных у них на хранение (речь шла о метрических свидетельствах самого Налётова и его детей, родившихся в России, о брачном свидетельстве его и жены и аттестате об окончании им Лазаревского института восточных языков), и сообщить о результатах своего запроса в Департамент герольдии Правительствующего сената России.
Сенат проверил дело дворянина Николая Александровича Налётова и сообщил в Министерство иностранных дел, что 15 декабря 1859 года были «утверждены постановления Костромского Дворянского Депутатского Собрания о внесении подпоручика Александра Васильевича Налётова с женою его Варварой Александровной и детьми, а в их числе и сыном Николаем, во вторую часть дворянской родословной книги, по личным его заслугам…». Консулу Налётову рекомендовалось обратиться с прошением непосредственно в Костромское дворянское депутатское собрание, представив туда копию своего послужного списка, консисторские метрические свидетельства о рождении детей и удостоверение о сохранении ими прав состояния (то есть справку о том, что они ещё дворяне).
Он начал с того, что греческое свидетельство о рождении дочери Софии перевёл на русский язык (София крестилась в Трапезунде в православной греческой церкви), затем подписал его у священника, выдавшего первичную метрику, потом скрепил его подписью вышестоящего церковного иерарха, легализовал [119] Легализовать документ — заверить его подлинность, в том числе подтвердить точность его перевода на русский язык и подлинность печатей и подписей чиновников данной страны. В консульствах, как правило, находятся образцы печатей и подписей сотрудников МВД страны пребывания, которые, в свою очередь, подтверждают подлинность печатей и подписей загсовских и других учреждений своей страны. После заверки (легализации) документа он может иметь законное хождение в России.
в своём консульстве и выслал его по назначению. Русское свидетельство дочери Налётова, в конце концов, оформили в Собственной его Императорского Величества канцелярии по учреждениям императрицы Марии, а Департамент личного состава и хозяйственных дел в сентябре 1902 года переслал его в Рущук, потребовав от просителя уплаты гербового сбора в сумме 1 рубля 20 копеек
После этого консул Налётов попросил департамент выслать ему метрику на сына Александра и своё свидетельство о браке и сообщил, что поскольку русских гербовых марок у него нет, то посылает в Петербург два рубля. Некоторое время спустя он сообщил, что такую мелкую сумму у него на почте не приняли, в связи с чем просит вычесть эти жалкие 120 копеек из его жалованья и заплатить из них гербовый сбор в Собственную его Императорского Величества канцелярию. Департамент терпеливо высылает дополнительные метрики в Турцию и просит «вернуть оные» по миновании надобности…
В конце архивного дела, заведённого по прошению Налётова, автор с трудом обнаруживает проблески света в туннеле, но по архивным документам дело консула так и не закончилось. Хочется верить, что все его дети благополучно были вписаны во вторую или другую часть дворянских книг Костромской губернии и что для консула Налётова это были самые неприятные минуты в жизни.
Дипломату свойственно слегка преувеличивать значение той страны, в которой он работает, и это естественно. Глава генконсульства в Танжере (Марокко), министр-резидент Бахерахт в октябре 1903 года был озабочен проблемой преобразования генконсульства в миссию. Свой проект в пользу этого он, естественно, обосновал «государственными соображениями», изложив товарищу Ламздорфа, его сиятельству В. А. Оболенскому, такую подоплёку: находившиеся в консульском округе генеральные консульства Бельгии, Португалии и Австро-Венгрии уже преобразованы в миссии, остались только генконсульства Бразилии и США. Но эти последние ведут себя самым неподобающим образом, их сотрудники, пользуясь своим служебным положением, вступают в сомнительные сделки с марокканцами, а потому честные члены консульско-дипломатического корпуса общения с ними избегают. И Бахерахт делает вывод: нахождение Российского Императорского генерального консульства в таком обществе непозволительно. Больших торговых интересов Россия в Марокко не имеет, пишет министр-резидент, намекая на то, что зато существуют большие политические интересы. Кроме того, в случае его отсутствия в генконсульстве нет полномочного лица, которое могло бы исполнять обязанности временного поверенного, потому что его заместитель — всего лишь секретарь-драгоман, не имеющий дипломатического статуса. В случае преобразования генконсульства в миссию все эти неудобства были бы устранены, гладко заключает Бахерахт.
Кажется, проект министра-резидента остался без последствий — уж слишком явно проступали в нём личные интересы…
А вот консульство в Лиссабоне то ли по ошибке, то ли намеренно напечатало для себя бланки, на которых оно значилось генеральным консульством. Департамент личного состава и хозяйственных дел письмом от 18 октября 1893 года обязал консула изъять «неправильные» бланки и напечатать новые.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: