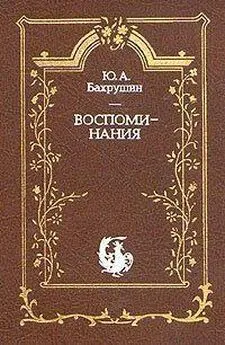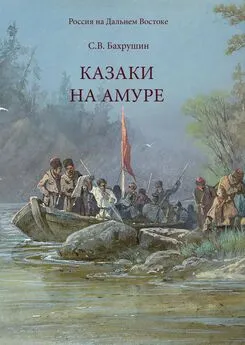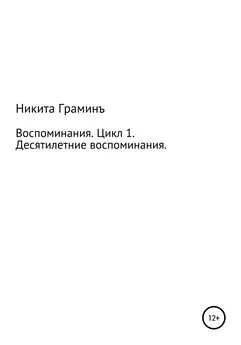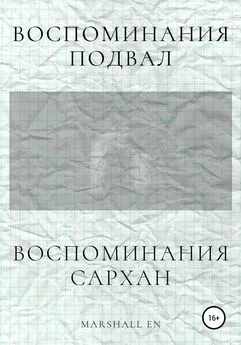Ю. Бахрушин - Воспоминания
- Название:Воспоминания
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Художественная литература
- Год:1994
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Ю. Бахрушин - Воспоминания краткое содержание
«Воспоминания» Ю. А. Бахрушина — это не только история детства и отрочества самого автора, но и история знаменитого купеческого рода Бахрушиных, история российского коллекционирования и создания Театрального музея. Зав. редакцией С. Князева Редактор Я. Гришкина Художественный редактор Е. Ененко Технические редакторы Л. Ковнацкая, В. Кулагина Корректоры О. Добромыслова, Л. Овчинникова
Воспоминания - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
— Книги — не надо, здесь читайте, а вот письма и записки там разные — это, пожалуй, можно, их все одно мыши зимой жрут — я уж много выкинул.
С этого дня передо мной стала раскрываться история этой усадьбы и развертывалась незатейливая жизнь интеллигентной дворянской семьи среднего достатка.
В XVIII веке Жодочи принадлежали Н. В. Рогозину, но уже в конце столетия они перешли во владение Федора Михайловича Вельяминова-Зернова, у которого были сын Владимир и красавица дочь Анисья Федоровна, в начале XIX века вышедшая замуж за Степана
Ивановича Кологривова. От этого брака родились два сына: Николай и Иван. Семья, по-видимому, своего дома в Москве не имела и жила безвыездно либо в Жодочах, либо в Паюсове в Орловской губернии, сносясь со столицей письмами. Когда сыновья подросли, они поступили на службу. Старший — в канцелярию московского генерал-губернатора — всесильного графа Закревского — чиновником особых поручений, а младший пошел на военную службу.
Пожелтевшие от времени листки писем осторожного и предусмотрительного Николеньки, испещренные его ровным, аккуратным почерком, переносили меня в бальные залы Москвы 40-х годов или в Большой театр на премьеру балета или итальянской оперы, заставляли принимать участие во всевозможных интригах генерал-губернаторского окружения или узнавать всю подноготную скандальных столичных происшествий и великосветских сплетен. Николенька никогда не забывал подчеркнуть, что он сообщает это не для разглашения, а то «упаси Бог, граф узнает — тогда беда!». Письма Ванечки были всегда написаны наспех, неровным и небрежным почерком, с орфографическими ошибками. Здесь передо мной вставали величавые громады Кавказских гор, стычки с абреками, веселые товарищеские попойки с жженкой и удалыми песнями, выигрыши и проигрыши в карты, случайные встречи в Пятигорске и на Минеральных водах с знакомыми, с родными и с прелестными девушками. Бесшабашный и жизнерадостный, он был любимцем и баловнем матери и ничего от нее не скрывал. Ответы родителей пестрели благословениями и наставлениями и сообщениями о делах в Жодочах. А дела были неважные, доходы сокращались, и впереди зияла пропасть неизбежного разорения. Для поправки дел строились фантастические планы и предпринимались коммерческие авантюры. Был создан полотняный завод, но из него ничего не вышло. Взамен него стали курить вино, но и это, кроме убытков, ничего не принесло, наконец, стали организовывать фарфоровую фабрику, но на это не хватило средств.
Позднее 40-х годов писем не было — жизнь Жодо-чей замерла, чтобы более не возродиться. В 60-х годах имение какими-то путями перешло по наследству заведующему репертуаром московских театров Ник. Ив. Пельту. Он в имении не жил и им не интересовался. Его потомки владели Жодочами и тогда, когда я разбирал библиотеку и архив.
Самым оживленным периодом в истории Жодо-чей было начало прошлого столетия, когда в нем жил Владимир Федорович Вельяминов-Зернов и сюда приезжали бесчисленные поклонники молодой Анисьи Федоровны. Владимир Федорович в 1805 году начал издавать журнал «Северный Меркурий» и был коротко знаком со всей литературной Москвой. Да и Анисья Федоровна баловалась пером и печаталась в «Новостях русской литературы». В те года Жодочи посещали Карамзин, оба Дмитриева — баснописец и его племянник, а впоследствии молодой П. А. Вяземский, Веневитинов. Их имена и фамилии часто мелькали в переписке, находились списки и даже подлинники трогательных мадригалов, посвященных молодой хозяйке. Однако мне тогда удалось наткнуться лишь на два автографа — маленькой записки Карамзина н шуточного стихотворения Дмитриева, посвященного Анисье Федоровне. Зато во множестве попадались стихотворения никем не подписанные, но одинаково крючковатого почерка. Я взял себе десяток, а остальную массу возвратил обратно, так как приписывал их самому хозяину. Много лет спустя я вдруг увидел в Литературном музее знакомый мне крючковатый почерк и узнал, что он принадлежит Мерзлякову. Раздобыв биографию поэта, я узнал, что летом он постоянно жил в Жодочах и именно там сочинил свою широко известную песню «Среди долины ровные». Но делать было уже нечего — в те годы не только многочисленные рукописи Мерзля-кова, но и Жодочи уже не существовали.
Среди книг много попадалось первых изданий (помню, например, «Ведную Лизу») и произведений с дарственными надписями авторов, но на книги было «табу», и мне удалось тайком вынести лишь прекрасный список «Горя от ума» Грибоедова. В 20-х годах я как-то попал в Петровское в больничную аптеку и заметил кривоногий стол, под ножку которого была подложена какая-то книга. Вытащив ее, я увидел, что это «Басни» Крылова с дарственной надписью Анисье Федоровне, сделанной самим автором. На мою пламенную просьбу отдать или продать книгу я получил ответ:
— Нет! Как же? Стол будет качаться, а она как раз, а мне работать надо.
Мне удалось просмотреть не более десятой части жодочевского архива и шкафа три книг: начавшаяся война 1914 года и мобилизация в армию не дали мне возможности докончить это дело.
Вспоминается еще один комический случай моего плутания по новым, неизведанным местам. Раз как-то я поехал куда-то очень далеко и сбился с пути. После долгого блуждания я наконец попал на какую-то заброшенную дорогу в лесу, которая привела меня к монастырской ограде. Необходимость ориентироваться, усталость и любопытство заставили меня слезть с лошади и войти в ворота. Монастырь оказался женский и на редкость бедный — небольшая церковка и вокруг нее кельи и хозяйственные помещения, все сплошь деревянные. На просьбу осмотреть церковь услужливая монашка повела меня в храм. По дороге я стал расспрашивать, где я нахожусь и как мне добраться до дому. Моя спутница мигом мне все объяснила и поинтересовалась, кто я такой. Я назвал себя. Услышав мою фамилию, она переменилась в лице — на нем появилось выражение недоверия, перемешанного с прямым ужасом, наступила пауза, во время которой она внимательно смотрела мне в глаза, а затем последовал новый вопрос: кем мне приходится Александр Алексеевич. Узнав, что это мой родной дед, она всплеснула руками и опрометью побежала от меня, истошным голосом взывая к какой-то проходившей вдали другой монашке:
— Где мать-игуменья? Скорей ее сюда, скорей!
Я стоял один, как ошарашенный, среди монастырского двора с, вероятно, чрезвычайно глупым видом, не зная, что мне делать и как объяснить происшедшее. Пока я соображал, вдалеке появилась спешащая ко мне изо всех сил пожилая старуха, а за ней человек пятнадцать монашек.
Я не сразу понял, в чем дело, так как все говорили одновременно, перебивая друг друга, но наконец все объяснилось. Я уже ранее упоминал, что сестра моего деда, вследствие какого-то трагического романа, совсем молодой покинула свет и ушла в монастырь. Это и оказалась та обитель, куда постриглась бабушка и где впоследствии она игуменствовала чуть не сорок лет. Монастырь был на редкость бедный и походил больше на религиозную трудовую коммуну. Дед был почти единственным человеком, который, по просьбе сестры, время от времени посылал туда какие-то деньги, так что в данных обстоятельствах я оказался внуком «благодетеля» и мне воздавались но этому случаю соответствующие почести.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: