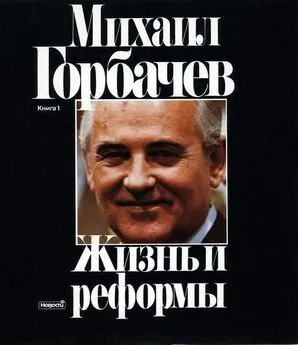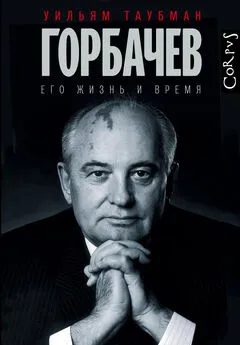Михаил Горбачев - Жизнь и реформы
- Название:Жизнь и реформы
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Издательство Новости
- Год:1995
- Город:Москва
- ISBN:5-7020-0953-3
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Михаил Горбачев - Жизнь и реформы краткое содержание
В книге своих мемуаров последний Президент СССР рисует эмоциональную, насыщенную уникальными фактами и откровениями, яркими эпизодами и диалогами картину своего пути к вершине власти. Становятся понятными истоки политического выбора «архитектора перестройки», критически анализируется ход реформ и их влияние на развитие ситуации в стране, постперестроечные реалии которой автор оценивает как драму. Впервые в таком объеме и с такой степенью доверительности Михаил Горбачев рассказывает о своей частной жизни, о своих родных и близких ему людях.
Вторая часть книги М.С.Горбачева посвящена внешнеполитическим последствиям реформ, формированию принципиально нового типа взаимоотношений СССР с зарубежными странами, особенно с США и другими ведущими державами, а также со странами бывшего соцлагеря. Интересны анализ автора трагических событий, связанных с распадом Союза, роли в ней отдельных прежних и нынешних политических деятелей, критическая оценка семилетнего периода правления страной, нравственные уроки жизни первого и последнего Президента СССР.
Жизнь и реформы - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Но при всем этом был установлен жесткий предел, который категорически запрещалось переступить. Прорывались к публике лишь скудные обрывки информации, народ не мог представить всех масштабов бедствия нашей природы в результате дикого, варварского к ней отношения. Гласность впервые позволила людям получить не отдельные, тщательно «процеженные» крохи информации, а всю правду о том, что происходит с нашей землей, лесами, водами, каким воздухом дышат города. Был дан мощный импульс «зеленому движению». Население начало остро реагировать на планы строительства крупных индустриальных объектов — особенно атомных станций, химических и металлургических производств, аэродромов.
Помню, какой бой дали волгоградцы планам расширения предприятия, работавшего на химизацию сельского хозяйства, хотя проектанты гарантировали экологическую чистоту. Так было в других местах, пусть даже речь шла о производстве дефицитных лекарств или мыльного порошка. Сильнейшее народное противодействие вынудило отказаться от проекта переброски вод северных рек, угрожавшего непредсказуемыми катаклизмами. Известные писатели связали себя с главными направлениями борьбы в защиту природы. Валентин Распутин — Байкал, Сергей Залыгин — Волга, Олжас Сулейменов — ядерный полигон в районе Семипалатинска, Виктор Астафьев — сибирские леса и реки, Василий Белов — леса севера России, Иван Васильев — Нечерноземье (гибель деревни — это гибель страны, таков был лейтмотив его ярких статей).
Гласность обнаружила, какая у нас расточительная психология: мол, хватит всего на веки вечные. Как неумело добывали, вернее «не добывали», нефть. Прошлись «кованым сапогом» по деликатному растительному покрову тундры. Загубили бесценные породы рыб, построив на Волге каскады электростанций. Мы узнали, что в 90 городах — практически всех крупнейших промышленных центрах Союза — наличие вредных веществ в атмосфере превышает допустимые нормы. По стране прокатился взрыв горечи и возмущения, когда стало известно, что поставлен под угрозу генофонд наших народов.
Уже тогда пришлось закрыть 1300 предприятий. Конечно, это было нелегко для экономики, намного осложнило перестройку, но, несмотря на возражения хозяйственных органов, местных властей, мы поддержали общественность. Предприятиям, продукция которых была необходима для жизнеобеспечения, было предложено принять срочные меры по соблюдению экологических предписаний и стандартов. Пришлось выступить и против перехлестов. Например, было очевидно, что нельзя творить произвол над землей, но некоторые фанатичные энтузиасты потребовали вовсе отказаться от мелиорации. Я возразил: с ума не надо сходить. Правильно предупреждают, что мы не знаем долговременных последствий сегодняшних действий, но рационально использовать воду сам Бог велел. В той же Америке, где климат куда благоприятнее нашего, более 25 миллионов гектаров орошаемых земель. Надо восставать не против мелиорации вообще, а против диких методов ее осуществления.
И в вопросах отношения к природе гласность несла не одни блага, сопровождалась и издержками. Появлялись прямо-таки истерические «выбросы» в прессе, публичных выступлениях. Некоторые члены руководства, хозяйственники хватались за эти вздорные выступления, убеждали, что «зеленое движение» погубит нашу экономику. Реакция интеллигенции на экологические проблемы стала трансформироваться в обобщения. Одни видели в них еще одно свидетельство изначальных пороков системы, другие — результат недальновидности, безответственности, ошибок партийно-государственного руководства. Все более ожесточенно атаковали правительство. Николай Иванович Рыжков порой просто терял самообладание. Помню один из таких эпизодов на заседании Политбюро. «Я не позволю издеваться надо мной, над моей семьей!» — буквально взорвался он, имея в виду крайне злобный выпад против него на телевидении.
«Дети Арбата» и другие прорывы
Гласность — это также возвращение «с полок» запрещенных к показу кинофильмов, публикация острокритических произведений, переиздание в стране практически всей «диссидентской» и эмигрантской литературы.
Пробным камнем стали, пожалуй, романы Рыбакова «Дети Арбата», Дудинцева «Белые одежды», Бека «Новое назначение».
Анатолий Рыбаков прислал мне письмо, а затем и рукопись. В художественном отношении она не произвела на нас большого впечатления, но в ней воспроизводилась атмосфера времен сталинизма. Рукопись прочли десятки людей, которые стали заваливать ЦК письмами и рецензиями, представляя книгу «романом века». Она стала общественным явлением еще до того, как вышла в свет. Располагало и имя автора, с творчеством которого я был знаком по «Екатерине Ворониной» и «Тяжелому песку». В общем, я считал, что книга должна выйти в свет, поддержал ее и Лигачев. Эпизод с романом Рыбакова помог преодолеть опасения последствий разоблачения тоталитаризма.
К такого рода преодолениям относится и реакция руководства на кинофильм Тенгиза Абуладзе «Покаяние». Он создавался под «прикрытием» Шеварднадзе, появился на экране сначала в Доме кино для «узкого круга», потом начал демонстрироваться в других закрытых залах. Фильм произвел впечатление разорвавшейся бомбы, стал явлением не только художественным, но и политическим. Идеологи предлагали обсудить на Политбюро, пускать ли его в широкий прокат. Я воспротивился, считая, что вопрос этот должны решать сами кинематографисты, творческие союзы. Там только этого и ждали. Так был создан прецедент, и скоро с полок посыпались произведения, задвинутые туда цензурой. А издательства начали беспрепятственно выпускать новые работы Айтматова, Астафьева, Распутина, Можаева и других писателей, перешагнувших каноны «социалистического реализма» и стремившихся восстановить великие традиции отечественной литературы, основанные на реализме критическом. Массовыми тиражами стали выходить труды Карамзина, С.Соловьева, Ключевского, Костомарова и других историков. За ними последовали книги русской эмигрантской классики: Бунина, Мережковского, Набокова, Замятина, Ал-данова. А там пришла пора «вернуться на Родину» той плеяде великих мыслителей, которые подверглись остракизму после революции: В.Соловьеву, Федорову, Бердяеву, Флоренскому, Ильину.
Не берусь перечислять всех. Называю лишь тех, с чьими трудами успел хотя бы познакомиться. И знаете, что мне прежде всего приходило в голову: как жалко, что не смог прочитать всего этого еще в студенческие годы! Да, наше поколение было обделено в духовном отношении, посажено на скудный паек, состоявший из одной идеологии, лишено возможности самому сравнить, сопоставить различные направления философской мысли и сделать свой выбор.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: