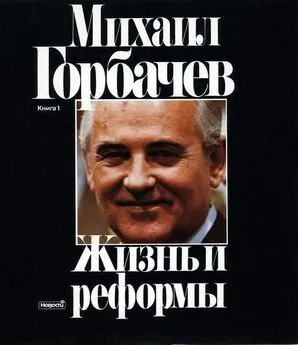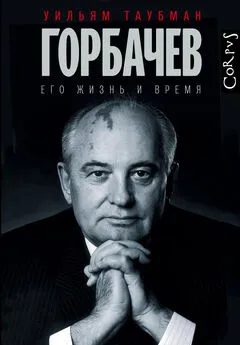Михаил Горбачев - Жизнь и реформы
- Название:Жизнь и реформы
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Издательство Новости
- Год:1995
- Город:Москва
- ISBN:5-7020-0953-3
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Михаил Горбачев - Жизнь и реформы краткое содержание
В книге своих мемуаров последний Президент СССР рисует эмоциональную, насыщенную уникальными фактами и откровениями, яркими эпизодами и диалогами картину своего пути к вершине власти. Становятся понятными истоки политического выбора «архитектора перестройки», критически анализируется ход реформ и их влияние на развитие ситуации в стране, постперестроечные реалии которой автор оценивает как драму. Впервые в таком объеме и с такой степенью доверительности Михаил Горбачев рассказывает о своей частной жизни, о своих родных и близких ему людях.
Вторая часть книги М.С.Горбачева посвящена внешнеполитическим последствиям реформ, формированию принципиально нового типа взаимоотношений СССР с зарубежными странами, особенно с США и другими ведущими державами, а также со странами бывшего соцлагеря. Интересны анализ автора трагических событий, связанных с распадом Союза, роли в ней отдельных прежних и нынешних политических деятелей, критическая оценка семилетнего периода правления страной, нравственные уроки жизни первого и последнего Президента СССР.
Жизнь и реформы - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Думая о завтрашнем дне, мы не отделяем своей судьбы от судьбы других стран и народов. В мире высоко оценивают наш вклад в оздоровление международных отношений, искренне желают успехов перестройке. Мы это воспринимаем как солидарность с нашим великим делом и шлем всем народам искренние пожелания благополучия и счастья.
Дорогие товарищи! Как ни глубок переживаемый страной кризис, мы можем и должны добиться перелома к лучшему уже в будущем году. Но для этого нужны гражданское и межнациональное согласие, ответственность и дисциплина, добросовестный труд и человечность в отношении друг к другу.
В эти последние мгновения уходящего года я обращаюсь ко всем, кто собрался в кругу семьи и друзей, со словами новогоднего приветствия.
Пусть будут в 1991 году мир, согласие и благополучие в каждом доме!
Пусть возродится к новой жизни наша Отчизна!
С Новым годом, дорогие сограждане!»
С такими надеждами вступили мы в 1991 год. Но уже в первой половине января разразилась гроза.
Литовский синдром
С Литвой связано много драматических страниц истории России. Так случилось и на этот раз. На «литовском полигоне» разыгрывалось, по существу, будущее страны. И участвовавшие в этом партии стремились прежде всего привлечь на свою сторону население республики. Казалось, его состав давал меньше всего оснований для опасений утратить национальную идентичность (4/5 — литовцы, только 1/5 — русские и люди других национальностей). Но «Саюдис», выступивший с момента своего возникновения в роли Фронта национального освобождения, строил свою пропаганду на тезисе: если республика останется в составе СССР, литовцам грозит превратиться в меньшинство на земле предков, как это почти уже случилось с эстонцами и особенно латышами. Нет нужды говорить, что это предостережение находило живой отклик, в короткий срок собрав под знамена «Саюдиса» не только национальную интеллигенцию, людей, связанных с эмигрантскими кругами, враждебно настроенных к Советской власти и обиженных ею, но также значительную часть простого народа.
Наряду с аргументами политического характера приводились не менее, если не более весомые практические доводы: «Литва обладает самым развитым в СССР сельским хозяйством, осуществляет большие поставки в Ленинград, Москву, различные российские области животноводческой продукции, в то время как в самой республике возникают подчас перебои со снабжением мясом». Это было правдой, но только частью правды. Предпочитали умалчивать или принижать значение огромных встречных поставок из России — зерна, нефти, металла, промышленных и потребительских товаров. Не говорили и о тех немалых преференциях, которые были с первых послевоенных лет установлены советским правительством для Прибалтики из политических соображений. Благодаря им наряду, конечно, с большей производительностью труда уровень жизни здесь всегда был выше, чем в других регионах Союза. Мало кто по-настоящему вдумывался в этот баланс. Слушая речи агитаторов «Саюдиса», не только литовцы, но и жители Литвы из числа других национальностей начинали думать, что заживут в несколько раз лучше, избавившись от «диктата Москвы», необходимости «платить ей дань».
То, что «Саюдису» удалось сравнительно легко овладеть сознанием подавляющей части общества, в известной мере объясняется и слабостью тогдашнего литовского руководства. После смерти Гришкявичюса первым секретарем ЦК Компартии Литвы был избран Сонгайла. Порядочный, уравновешенный человек, он всю жизнь занимался аграрным делом, был не очень силен в политике, тем более жизнь подкинула ему задачу крайней сложности. Я не раз беседовал с Сонгайлой, видел, что он в полной растерянности, не способен находить правильные решения возникавших перед ЦК КП Литвы проблем. Встал вопрос о смене лидера, и первым секретарем был избран Бразаускас.
Справедливости ради следует сказать, что пришел он к руководству тогда, когда инициатива практически находилась уже в руках «Саю-диса». Много сторонников последнего было и в рядах компартии, в ней началось брожение. Коммунисты остро реагировали на обвинения в том, что они не являются национальной силой, составляют часть структуры КПСС и служат не Литве, а Москве.
Вот ситуация, с которой пришлось иметь дело Бразаускасу. И после недолгих колебаний он взял курс на провозглашение самостоятельности Компартии Литвы, выход ее (возможно, через какие-то промежуточные этапы) из КПСС. А это означало удар по единству КПСС. Иными словами, «литовский синдром» приобрел двойной характер, развивался одновременно по партийной и государственной линии.
Думаю, Бразаускас достаточно ясно видел проблемы, которые возникнут в результате ухода литовских коммунистов из КПСС. Но понимал, что партия обречена, если не сумеет подтвердить свой национальный характер.
В то время я считал возможным сохранить единство КПСС, обеспечив самостоятельность республиканских компартий, в крайнем случае создав своего рода федеративный союз между ними.
Подозреваю, ставка на выход из КПСС была окончательно принята лишь после того, как со всей ясностью обозначилась воля народа обрести полную государственную независимость. До того момента с обеих сторон шел, можно сказать, поиск приемлемой формулы сосуществования в рамках единой политической структуры — партийной и государственной. И до сих пор остаюсь при убеждении, что это было возможно, если бы не позиция России. Причем по двум линиям. И по государственной, как она провозглашалась радикал-демократами, Ельциным. И по партийной, как она начала формулироваться консервативным крылом КПСС, захватившим власть во вновь образованной Компартии РСФСР.
Вся расстановка сил обозначилась, конечно, не сразу. Во второй половине 1989 года, когда в Литве к власти фактически пришел «Саю-дис», литовский вопрос обсуждался едва ли не на каждом очередном Пленуме Центрального Комитета.
Я считал крайне важным разобраться, что же происходит в республике, какие настроения господствуют в народе, можно ли переубедить сторонников полного отделения. С этой целью и по поручению ЦК была предпринята поездка в Литву в январе 1990 года, в которой меня сопровождал избранный к тому времени секретарем ЦК и главным редактором «Правды» Фролов. В Вильнюсском аэропорту нас встретили Бразаускас и секретарь ЦК Компартии Литвы (на платформе КПСС) М.Бурокявичус, Председатель Президиума Верховного Совета республики В.Астраускас, Председатель Совета Министров В.Сакалаускас, а также прибывшие сюда раньше и уже имевшие ряд встреч с литовскими руководителями Медведев и Маслюков.
Детали этой поездки живо сохранились у меня в памяти. Встречали нас повсюду приветливо и доброжелательно, но буквально с первых же бесед с жителями литовской столицы на площади Ленина и до последних прощальных минут обсуждалась фактически одна тема — отделение Литвы от СССР. В своей поездке ставку я делал на диалог, на убеждение — с кем бы ни вел разговор. Так было и на встрече с рабочими в Доме культуры завода топливной аппаратуры.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: