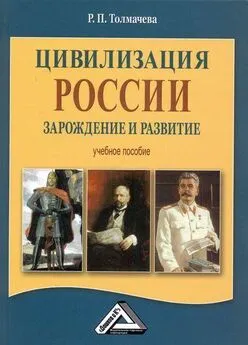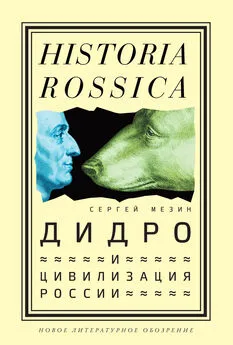Виктор Бердинских - Крестьянская цивилизация в России
- Название:Крестьянская цивилизация в России
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Аграф
- Год:2001
- Город:Москва
- ISBN:5-7784-0182-5
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Виктор Бердинских - Крестьянская цивилизация в России краткое содержание
Книга, основанная на воспоминаниях о жизни, быте, нравах, обычаях, верованиях русского крестьянства, представляет собой попытку нравственно-философского осмысления последствий одного из самых драматичных социальных сдвигов XX века, который принято называть раскрестьяниванием России. Это первая книга по устной истории в России.
Крестьянская цивилизация в России - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
10 В. Берлинскихбыли определены. Пиротехник же Илья, продолжая свою разрушительную деятельность, сорвался с 3-метровой высоты на каменные плиты пола церкви и то ли в результате падения, то ли по какой другой причине у него на теле появились три опухоли, которые верхошижемцы называют килами. Они были расположены с боков и сзади. Килы, по-видимому, не причиняли Илье боли или неудобства, прожил он с ними еще лет тридцать и, похоже, даже гордился тем, что нажил их при свершении столь нестандартного подвига. В общественной бане он, польщенный вниманием, охотно рассказывал об их происхождении и даже позволял желающим потрогать. Люди же, близкие к Богу, говорили, что килы — это божье наказание».
Не везде закрытия церквей проходили спокойно или с женским плачем. Во многих местах местные жители пытались оказать властям сопротивление. Такого рода попытки жестоко подавлялись. Александра Тимофеевна Симушина (1915, с. Зуевка) рассказывает: «В тридцатых годах повсеместно закрывали церкви. Не минуло это и церковь села Поджерково. Вместе с закрытием церкви изымалось все ценное, что там имелось. В Поджерково приехали милиционеры, чтобы забрать ценные иконы, позолоченные, а также церковную серебряную утварь. Узнав об этом, к церкви собралась большая толпа, которая пыталась помешать милиции увезти ценности. В суматохе, а попросту в жестокой драке, был убит милиционер. Начались повальные задержания местных крестьян».
Активное сопротивление было обречено на неудачу. Пассивное сопротивление — скорбь, оплакивание гибнущей веры, тайное хранение икон и тайные молитвы держались долго в крестьянской среде. Татьяна Романовна Селезнева (1925) хорошо помнит эту атмосферу: «Когда коммунисты начали громить церкви, началась третья великая скорбь народа. В благочестивые семьи заходили монашки и вместе горько горевали на гонение священнослужителей и их, все это делалось втайне. Передохнув, покрестившись, они куда-то уходили, а мы, оставшись дома, горевали, переживали за них. Они нам пели и рассказывали чудные молитвы, которые запали в наши детские души, хотя потом, когда мы росли, не было действующих церквей, а в душе я всегда верила, что есть Бог! Хотя ни одной молитвы не знала. Как христиане крестьяне в ужасе и страхе тихонько рассказывали: "Посмотрите-ка, посмотрите-ка, что делают коммунисты. С той-то, той-то церкви сбросили колокола, все разграбили, священнослужителей разогнали по острогам. Антихристы, антихристы пришли — все рушат, хороших людей убивают, сажают в острог. Бога-то, видно, не боятся, но придет на них суд Божий!" Вот так было.
Мои родители были верующими. Они были простые крестьяне».
Нельзя преуменьшать, но и не следует преувеличивать религиозность русского крестьянства. Отчаявшаяся беднота, одержимая одной мыслью — досыта поесть, была часто совершенно равнодушна (а порой и враждебна) ко всем отвлеченным, абстрактным вопросам духовной жизни, завидовала более обеспеченным священнослужителям. Е.Г. Теренкова (1918) простосердечно признается: «А насчет церкви, так я в церковь не ходила. Не до нее было. Да я уже с детства в Бога не верила. С гражданской войны церковь у нас не работала частенько. Да и что мы от церкви хорошего видели. Япопов не люблю. Хотя маленькая была, а помню, попы в голодное время по деревням ездили, собирали у кого яйца, у кого молоко, у кого хлеб, у кого крупу. Пузо, как говорят, наедали, обжирались, а мы голодовали.
В 1938 г. я приехала в Киров. Молоденькой еще девчонкой была. Одета была — хуже некуда. Мечта была одна: досыта наесться и одеться как все».
Никита Семенович Путышев (1913) на примере родного села говорит о следующем раскладе сил при закрытии церкви: «Если говорить о сходках, то в 20-е годы их не было, они появились только в 30-е годы. Одна мне запомнилась на всю жизнь. Речь шла о закрытии церкви. Собрался народ, а народ был очень сильно верующий в те времена. Все стояли без головного убора и внимательно слушали выступающих. Они выступали против религии, о том, что Бога нет. Церкви стали разрушать, сбрасывали кресты, а колокола переплавляли на пушки. Старые люди все равно верили в Бога, 80 % из них были против закрытия церкви, а 20 % — шли против религии. Бедные люди были особенно против религии, так как что беднякам — есть Бог или нет, все равно он с неба не сойдет и досыта не накормит. Сильно верили в Бога богатые семьи. Раньше религия была «законом» для всех, грех считался основным законом. Он скреплял всю дисциплину, совесть. Если ты погрешил, значит, попадешь после смерти в ад, если нет — то в рай, поэтому раньше не было таких законов, как сейчас, и убийств и воровства было меньше, народ был темный и Бога, греха боялся».
Все 1930-1960-е годы шла активная борьба не столько с верой, сколько с верующими. Лишь в период Великой Отечественной войны власть сделала некоторое послабление народу — открылось небольшое количество закрытых церквей, не так рьяно преследовали верующих. «В годы войны все верующие в Бога втайне молились как могли за своих сыновей, мужей, за их скорое возвращение, победу! В годы войны уже никто не преследовал верующих. Иногда просачивались слухи, когда немец уже подошел к Москве, что
Сталин уже сам стал призывать к вере народ, будто открыл несколько церквей, и усиленно стали молить Бога о помощи, только тогда наши войска победили, благодаря Божьей помощи, ведь Бог воодушевил и благословил голодного солдата на победу» (Т.Р. Селезнева, 1925).
«Во время войны некоторые церкви были открыты, появились освобожденные из мест заключений священники. Верующие потянулись искать защиты от недоли: одни справляли молебен по убиенным на войне, другие молились о здравии живущих. Это был короткий период оживления церковной деятельности. По-прежнему запрещалось содержание икон в домах, членам партии и комсомольцам не разрешалось крестить детей, справлять венчание, отпевать усопших. В 1954 году мои бабушки окрестили внучек — моих детей, разумеется, без моего ведома и согласия. По предложению райкома партии за утрату бдительности и отправление религиозных обрядов на профсоюзном собрании мне был объявлен строгий выговор с предупреждением» (И.А. Морозов, 1922).
Есть, впрочем, и совершенно противоположные примеры, хотя их значительно меньше. «В годы войны верующих стали притеснять еще больше. Оставшиеся церкви и то прикрывали временно. Да и нам в войну было не до веры. Мы ждали домой мужей и Победу. Не до церкви было, лишь бы поесть да не свалиться» (К.М. Локтева, 1921).
Трагичной оказалась судьба целого сословия русского общества — российского духовенства. По существу, оно было уничтожено физически — истреблено и вычеркнуто из новой жизни. Тяжкой оставалась судьба детей репрессированных церковнослужителей. Черная отметка в графе «Происхождение» — «из семьи служителей культа» закрывала им дорогу к образованию, любой должности на государственной службе.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
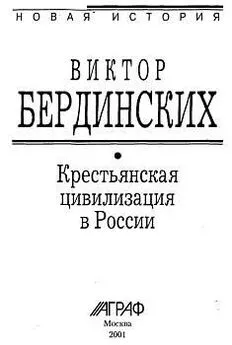




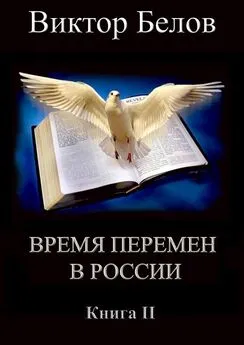
![Сергей Мезин - Дидро и цивилизация России [litres]](/books/1066350/sergej-mezin-didro-i-civilizaciya-rossii-litres.webp)