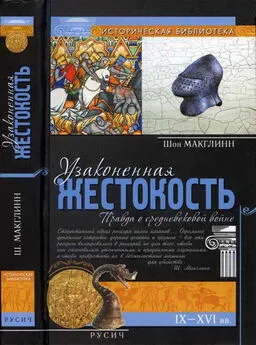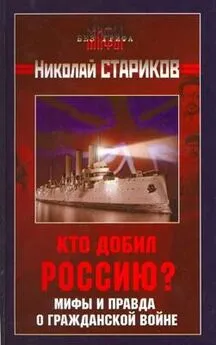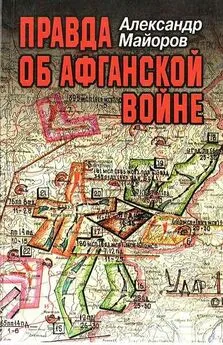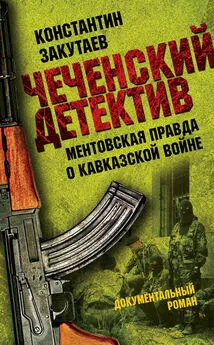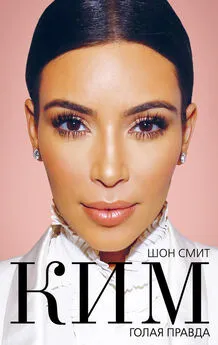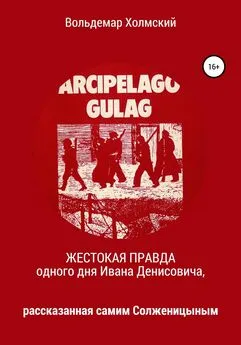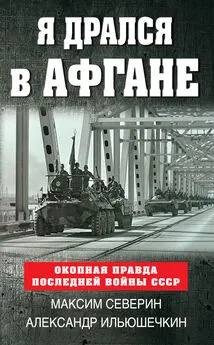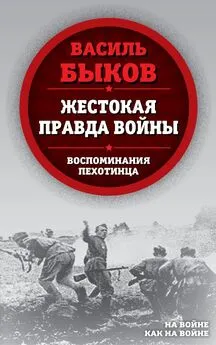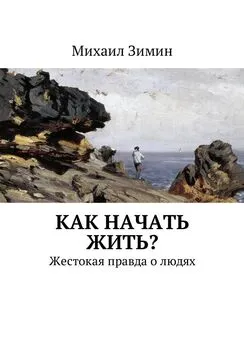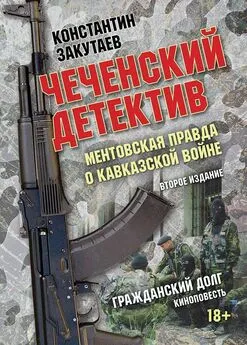Шон Макглинн - Узаконенная жестокость: Правда о средневековой войне
- Название:Узаконенная жестокость: Правда о средневековой войне
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Русич
- Год:2011
- Город:Смоленск
- ISBN:13-978-0-297-84678-9 (англ.), 978-5-8138-1010-7 (рус.)
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Шон Макглинн - Узаконенная жестокость: Правда о средневековой войне краткое содержание
Несмотря на бытующие до сих пор представления о рыцарском благородстве и кодексе чести, средневековые войны были неизбежно сопряжены с деяниями, которые в наши дни считались бы чудовищными военными преступлениями. Разорение сел и городов, беспощадная резня мирного населения, массовое истребление пленников, несоразмерные по суровости наказания за нетяжкие преступления — вот типичная практика и традиции того кровавого времени.
Путем всестороннего исследования битв, осад и походов, а также недолгих периодов затишья автор воспроизводит убедительную и шокирующую картину далекой, но отнюдь не романтической эпохи.
Узаконенная жестокость: Правда о средневековой войне - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
В дальнейшем средневековая Англия часто изображается как анархическая страна, которая, подобно всей Европе, вырождалась в результате регулярных встрясок от войн и чумы: Столетней войны и «черной смерти». Количество тяжких преступлений, по мнению исследователей, равнялось двадцати убийствам на каждые сто тысяч населения — это в десять раз выше, чем в XIX веке. Однако данные могут быть завышены, особенно это касается периода Позднего Средневековья. В Папстонских письмах (Papston Letters) 1424–1518 гг. обнаруживается, что только это семейство за указанный период двадцать шесть раз пострадало от насилия по отношению к его членам и к его соседям (сюда включены также травмы и увечья, полученные во время состязаний или от несчастных случаев). Одним из объяснений такой благоприятной среды для всплеска насилия, как ни парадоксально это звучит, является война. Война дестабилизирует общество, как некоторые другие неординарные события, но до 1450-х гг. Англия вела свою войну на территории Франции, а не у себя на острове — в результате на родине поддерживался относительный мир. Все с точностью до наоборот творилось в разрываемой войной Европе, где состояние войны само по себе стимулировало проявление насилия в других аспектах жизни. Таким образом, во время особенно жарких периодов Столетней войны многие потенциальные и фактические нарушители закона были «экспортированы» на континент, где их изуверские наклонности, скорее, поощрялись, нежели могли быть как-то осуждены. Не следует также забывать, что многие убийства совершались не оружием, а повседневными предметами труда, обычно рабочим инвентарем. В своем исследовании жестокости и насилия в Восточной Англии в период с 1422 по 1442 г. Филиппа Мэддерн подсчитала, что свыше четверти убийств совершалось именно инвентарем, в то время как иногда убивали вообще безо всякого оружия. Это иллюстрируется двумя примерами. В 1428 году, когда Джон Уисбеч вместе Джоном Колли прочищали сливную канаву, между ними завязалась ссора. Уисбеч ударил Колли лопатой и убил его. Один из судов в 1434 году рассматривал дело о смерти Ричарда Тарсела, убитого Элезиусом Томсоном, который орудовал колом от забора.
Публичные казни продолжались, являя собой суровое предостережение тем, кто оскорблял Всевышнего и его божественный уклад. Хотя умышленные и непреднамеренные убийства различались, судья, в первую очередь, усматривал в совершении злодеяния преступный умысел. Так, два совершенно непохожих дела эпохи средневековой Англии были рассмотрены судьями абсолютно одинаково. В одном случае Ричард Фэйркок и Мартин Бадди были осуждены за спланированное убийство. Жертву свою они закопали поглубже, тщательно замаскировав место, чтобы никто не смог обнаружить тело. Оба были приговорены к повешению, но Бадди, покаявшись перед духовниками и вымолив помилование, смог избежать судьбы напарника. В другом случае Томас Элам напал на некую Маргарет Перман. В попытке изнасиловать ее, он сломал женщине три ребра и откусил нос; в раны несчастной попала инфекция, и она умерла. Элана повесили за убийство, хотя оно и вышло непредумышленным. Однако, по-видимому, степень жестокости того или иного преступления не так важна, как суровость публичного наказания за все виды преступлений: приблизительно восемь процентов всех казней в Англии были назначены за нетяжкие преступления, в большинстве своем связанные с кражей или поджогом имущества.
В общем и целом схожее отношение к жестокости и насилию со стороны правителей и их народов господствовало по всей Европе. Так же, как и в Англии, монархи удерживали свое положение по данному им свыше божественному праву, и поэтому наказание за деяния против государства в лице короля служило божьей карой. Идеи, связанные с наказаниями, уходят корнями еще в древнеримские времена (средневековая Священная Римская империя явилась своего рода попыткой имитации своей более знаменитой предшественницы) и в ранний период церковной истории с ее длинным перечнем мучеников. В Европе мы, наверное, сможем различить даже более древние виды наказаний, которые позднее получили развитие в Англии, такие, как замена смертной казни причинением телесных увечий: например, в начале VII века вестготы в качестве такой альтернативы иногда применяли ослепление осужденного. Как уже обсуждалось, телесные увечья применялись с целью устрашения и в качестве наглядного примера, но вместе с тем заключали в себе и иные намерения. Порой они были слишком недвусмысленными, но весьма эффективными: вор, лишенный рук, едва ли мог возобновить свои прежние занятия. В ряде случаев намерения карающей стороны были более «тонкими»: по меньшей мере, в одном из средневековых источников ослепление преступников объясняется тем, что осужденный не сможет увидеть нанесенный им ущерб, а следовательно, не получит должного удовлетворения.
Ряд преступлений подразумевал вполне определенный вид наказаний. Так, например, в Англии для фальшивомонетчиков предусматривались телесные увечья, а во Франции — сварение в кипятке. В Европе и в Византийской империи ослеплению подвергались политические преступники; этот вид наказания получил распространение в эпоху Карла Великого. Как один из видов телесных увечий, оно давало возможность правителю проявлять свою «милость» в отношении преступников, чьи деяния заслуживали смерти. Средневековые источники возносят хвалу Карлу Великому и Пипину Короткому, которые, подавив мятежи в 768 и 792 гг., велели вместо казни заговорщиков ослепить их. Аналогичным образом, три столетия спустя французский хронист Сугерий отмечает «милость», проявленную королем Генрихом I по отношению к казначею, покушавшемуся на его жизнь: осужденный подвергся ослеплению и кастрации, вместо того чтобы быть повешенным за совершенное преступление. Нередко случалось и так, что в процессе нанесения телесных увечий столь ужасные раны приводили к смерти осужденного. Согласно свидетельству одного из современников, король Иоанн вполне милостиво отнесся к своему сопернику и племяннику Артуру Бретонскому, когда велел того «всего лишь» кастрировать; при этом жертва скончалась от болевого шока. Интересно отметить, как различные формы наказаний выработали свое собственное теологическое оправдание. Например, ослепление трактовалось как невозможность лицезреть божественный свет, который бог пролил на мирского государя.
В недавно опубликованном крупном исследовании Тревора Дина «Преступления в средневековой Европе» / Crime in Medieval Europe (2001) обнаруживаются сходства в характере преступлений в Англии, а также различия в судебных подходах. И опять здесь ощущается влияние имперского Рима, причем Англия несколько отклонилась от остальной Европы, создав у себя общее право, а позднее — круговую поруку, которая в XIV веке пришла в упадок за счет изменения положения различных социальных групп. Однако позднее в эпоху Средневековья наметилось некоторое сближение: судебная ордалия стала применяться реже и постепенно отошла в тень, по мере того как росла квалификация судей, получавших университетское образование, а роль централизованной, монархической власти в преследовании преступников возросла как никогда. Европа обычно сильнее придерживалась инквизиторской линии, что неудивительно, поскольку громкие процессы церковной инквизиции имели большое влияние. Это позволило узаконить пытки при судебных расследованиях.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: