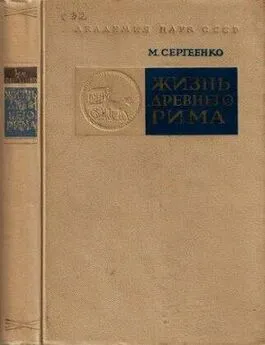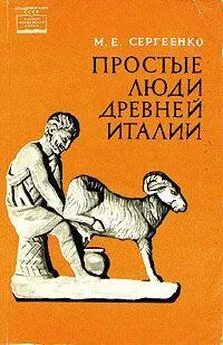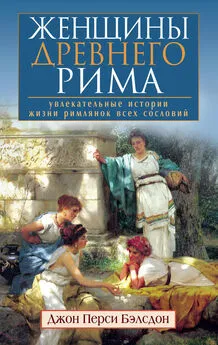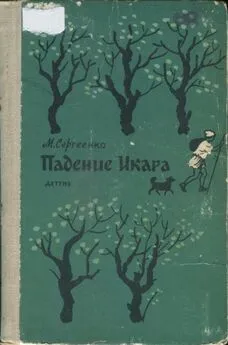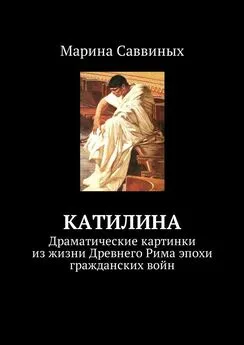Мария Сергеенко - Жизнь древнего Рима
- Название:Жизнь древнего Рима
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Летний сад
- Год:2000
- Город:СПб.
- ISBN:5-89740-026-1
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Мария Сергеенко - Жизнь древнего Рима краткое содержание
Книга историка античности М. Е. Сергеенко создана на основе лекций, прочитанных автором в 1958–1961 гг., впервые вышла в свет в 1964 г. под эгидой Академии наук СССР и сразу же стала одним из основных пособий для студентов-историков, специализирующихся на истории Рима.
Работа, в основном, посвящена повседневной жизни Рима и его жителей. М. Е. Сергеенко подробно рассматривает археологические находки, свидетельства античных авторов и другие памятники для воссоздания обычаев и мировоззрения древнеримского народа.
Сугубо научный по рассматриваемому материалу, текст книги, тем не менее, написан доходчиво, без перегруженности специальной терминологией, так как автор стремился ознакомить нашего читателя с бытом, с обыденной жизнью древнего Рима — ведь без такового нельзя как следует понять ни римскую литературу, ни историю Рима вообще. Поэтому текст легко и с интересом воспринимается даже неподготовленным читателем.
Издание рассчитано как на специалистов-историков, так и на массового читателя.
Жизнь древнего Рима - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Это вскользь брошенное, предельно откровенное замечание в точности выражает отношение римского общества к отпущенникам. Были, конечно, исключения, но исключения эти касались отдельных людей и отдельных случаев. Цицерон относился к своему Тирону, как к родному и близкому человеку; в кружке Мецената никто не помнил, что Гораций — сын отпущенника, но в общем римское общество относилось к отпущенникам, как к целому сословию, с брезгливым высокомерием, как к существам иной, низшей породы. Отпущенники это мучительно ощущают; рабское происхождение ежеминутно пригибает их книзу, и от него никуда не деться, никуда не спрятаться: оно кричит о себе самым именем отпущенника. Патрон дает ему свое собственное и родовое имя; личное имя отпущенника превращается в прозвище «cognomen». Официальное имя Тирона было Marcus Tullius Marci libertus (последние два слова обычно в сокращении M. l.) Tiro [202]. Отпущенник не может указать имени своего отца — это привилегия свободного человека, — не может назвать своей трибы — он не принадлежит ни к одной. В официальных надписях и документах его имя всегда связано с именем патрона, и дружеская рука старается если возможно, не запятнать хотя бы надгробия этими предательскими буквами: M. l., C. l.
От прошлого, однако, не уйдешь: его нынешнее «cognomen» — это то настоящее имя, под которым его знает все окружение; чаще всего оно греческое, а если латинское, то обычно это перевод его греческого имени. Как бедняга старается от него отделаться! Марциал ядовито издевался над каким-то Циннамом, переделавшим свое, явно греческое имя на латинское «Цинна». «Разве это не варваризм, Цинна? — деловито осведомляется он у своей жертвы. — Ведь на таком же основании тебя следовало бы, зовись ты раньше Фурием, называть Фуром» (fur — «вор»; Mart. VI. 17). Один из грамматиков, упомянутых у Светония (de gramm. 18), превратил себя из Пасикла в Пансу: претензии обоих — и крупного грамматика, и неизвестного Циннама — могли удовлетвориться только аристократическими именами.
Но и скромный ремесленник-отпущенник мечтает, как бы избавиться от этого вечного напоминания о том, что он бывший раб; ему так хочется, чтобы хоть на его детях не лежало этого пятна, чтобы они чувствовали себя римлянами, равными среди равных. Пусть уж его имя остается, каким есть, но сын его будет называться чисто римским именем: и вот Филодокс оказывается отцом Прокула, а у Евтиха сын Максим. В третьем поколении не останется и следа рабского корня.
Говоря об отношении к отпущенникам, надо проводить границу, во-первых, между Италией и Римом и, во-вторых, между тысячами тысяч скромных незаметных отпущенников-ремесленников и теми не очень многочисленными, но очень приметными фигурами, которые толпой стояли у трона и которым удавалось собрать сказочное богатство. Литература занималась преимущественно последними, на них негодовала, издевалась и хохотала преимущественно над ними.
Огромные богатства отпущенников [203]кололи глаза многотысячному слою римского общества, которое было бедным или казалось таким себе и окружающим. Когда свободнорожденный бедняк, у которого тога светилась, а в башмаках хлюпала вода, видел, как бывший клейменый раб сидит в первом ряду театра, одетый в белоснежную тогу и лацерну тирийского пурпура, сверкая на весь театр драгоценными камнями и благоухая ароматами, в нем начинало клокотать негодование (Mart. II. 29). Оставалось утешать себя преимуществами своего свободного рождения: «…пусть, Зоил, тебе будет дано право хоть семерых детей; никто не сможет дать тебе ни матери, ни отца» (Mart. XI. 12); в день рождения Диодора у него за столом возлежит сенат, даже всадники не удостоены приглашением, «и все же никто, Диодор, не считает тебя «рожденным»», т. е. имеющим определенного, законного отца (Mart. X. 27) [204]. Раздражало отсутствие вкуса и хвастливая наглость, с которыми это богатство выставлялось напоказ. Кольцо Зоила, в которое вделан целый фунт изумрудов, гораздо больше подошло бы ему для колодок: «такая тяжесть не годится для рук» (Mart. XI. 37; ср. III. 29). Поведение свободнорожденного и отпущенника совершенно различно в силу их разного душевного склада. «Ты все время требуешь от меня клиентских услуг, — обращается Марциал в своему патрону, — я не иду, а посылаю тебе моего отпущенника». — «Это не одно и то же», — говоришь ты. «Гораздо большее, докажу я тебе. Я едва поспеваю за твоими носилками, он их понесет. Ты попадешь в толпу — он всех растолкает локтями; я и слаб, и воспитан (в подлиннике непередаваемое выражение: «у меня благородный, свободнорожденный бок». — М. С. ). Ты что-нибудь станешь рассказывать — я промолчу, он трижды прорычит: «великолепно». Завяжется ссора — он станет ругаться во весь голос; мне совестно произносить крепкие словца» (III. 46). Отпущенник груб, невоспитан, льстив. Десятки лет, проведенные в рабстве, не могли не наложить на него своей печати, и печать эта не могла исчезнуть вмиг, от одного прикосновения преторской палочки. Как это обычно водится, Марциал, гнусно лебезивший перед Домицианом, возмущался невинной лестью своего отпущенника и считал, что он, свободный от рождения, и его бывший раб разделены пропастью.
Нельзя утверждать, однако, что римское общество в своем отношении к отпущенникам было совершенно не право. В душе «вчерашнего раба» могли таиться возможности страшные. И если он оказывался силен, богат и влиятелен, если тем более он находился у трона и был в чести у императора, то он мог стать грозной и разрушительной силой. Вырвавшись на свободу, дорвавшись до богатства и власти, он уже не знает удержу своим страстям и желаниям; его несет волной этого нежданного, негаданного счастья, подхватывает ветром захлестывающей удачи. Он утверждает свое «сегодня» отрицанием своего «вчера»; он заставляет себя поверить в этот настоящий день, выворачивая прошлое наизнанку: прежде он не доедал, не досыпал, валялся, где придется, как бездомная собака, — теперь он не знает предела своим гастрономическим выдумкам, своим прихотям и капризам; он хорошо знал, что значит хозяйский окрик и хозяйская плетка, — пусть теперь другие узнают, что значит его окрик и его плетка; он видел вокруг себя произвол, часто грубый и бессмысленный, — теперь его воля будет законом. Прежняя жизнь не воспитала в нем ни любви, ни уважения к кому бы то ни было и к чему бы то ни было: он живет сейчас собой, для себя, ради себя. Удовольствие и выгода — вот рычаги, которые движут всей его жизнью; ради них он пойдет на преступление, заломит взятку, предаст, убьет, разорит. Отпущенники, которые по воле императоров становились у кормила правления, были сущим бичом для тех, кому приходилось испытать на себе их власть. «Царскими правами он пользовался в духе раба (servili ingenio) со всей свирепостью и страстью к наслаждениям» — эти слова Тацита, которыми он характеризовал деятельность Феликса, Клавдиева отпущенника, управлявшего одно время Иудеей (Tac. hist. V. 9), хорошо подошли бы mutatis mutandis ко многим отпущенникам. Адриан, отстранивший их от всех важных государственных постов, не без основания обвинял отпущенников в бедствиях и преступлениях прежних царствований; он глядел в корень вещей: отпущенник мог быть подданным, но далеко не всегда становился гражданином [205].
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: