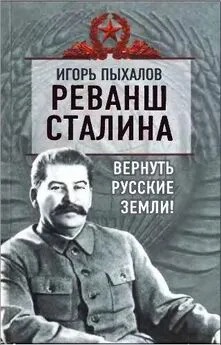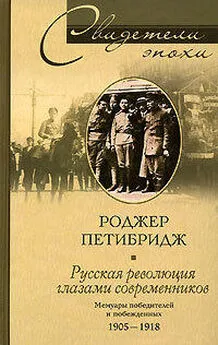Игорь Данилевский - Русские земли глазами современников и потомков (XII-XIVвв.). Курс лекций
- Название:Русские земли глазами современников и потомков (XII-XIVвв.). Курс лекций
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:АСПЕНТ ПРЕСС
- Год:2001
- Город:Москва
- ISBN:5—7567—0127—3
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Игорь Данилевский - Русские земли глазами современников и потомков (XII-XIVвв.). Курс лекций краткое содержание
Учебное пособие продолжает курс лекций «Древняя Русь глазами современников и потомков (IX–XII вв.)» того же автора и изучает период от распада Киевской Руси до образования Московского царства.
Книга предназначена для студентов и аспирантов гуманитарных факультетов вузов.
Русские земли глазами современников и потомков (XII-XIVвв.). Курс лекций - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Нельзя не отмстить, что некоторые основания пути, который предлагается мною слушателям-читателям, принимают далеко не все специалисты. Речь идет, прежде всего, о том ключе, который, как мне представляется, дает возможность лучше понять древнерусские тексты. Исходной точкой здесь является признание центонного принципа построения древнерусских текстов. В определенной степени это противоречит общепринятой в последние десятилетия теории литературного этикета, освященной авторитетом Д. С. Лихачева. Позволю себе напомнить ее суть:
«…Взаимоотношения людей между собой и их отношения к Богу подчинялись [при феодализме] [14] Здесь и далее в цитатах из источников пояснения в квадратных скобках мои; в круглых издателей источника.
этикету, традиции, обычаю, церемониалу, до такой степени развитым и деспотичным, что они пронизывали собой и в известной мере овладевали мировоззрением и мышлением человека. Из общественной жизни склонность к этикету проникает в искусство. <���…> Это была одна из основных форм идеологического принуждения в средние века. Этикетность присуща феодализму, ею пронизана жизнь. Искусство подчинено этой форме феодального принуждения. Искусство не только изображает жизнь, но и придает ей этикетные формы. <���…> Литературный этикет и выработанные им литературные каноны наиболее типичная средневековая условно-нормативная связь содержания с формой.
…[При этом] не жанр произведения определяет собой выбор выражений, выбор формул, а предмет, о котором идет речь. Именно предмет, о котором идет речь, требует для своего изображения тех или иных трафаретных формул. <���…>
Однако литературный этикет не может быть ограничен явлениями словесного выражения. <���…> Это [еще и] трафарет ситуации… Словесное выражение этого трафарета может быть различным, точно так же как и различных других трафаретов ситуации в описании…
Дело, следовательно, не только в том, что определенные выражения и определенный стиль изложения подбираются к соответствующим ситуациям, но и в том, что самые эти ситуации создаются писателями именно такими, какие необходимы по этикетным требованиям…
<���…> Откуда берется этот этикет ситуаций? Здесь предстоит произвести многие разыскания: часть этикетных правил взята из жизненного обихода, из реальной обрядности, часть создалась в литературе. Примеры жизненно-реального этикета многочисленны. Здесь в основном этикет церковный и княжеский (верхов феодального общества). <���…>
Следует особо отметить, что взятым из жизни, из реальных обычаев этикетным нормам подчинялось только поведение идеальных героев. Поведение же злодеев, отрицательных действующих лиц этому этикету не подчинялось. Оно подчинялось только этикету ситуации чисто литературному по своему происхождению. <���…> Они сравниваются со зверями и, как звери, не подчиняются реальному этикету, однако само сравнение их со зверями литературный канон, это повторяющаяся литературная формула. Здесь литературный этикет целиком рождается в литературе и не заимствуется из реального быта.
Стремлением подчинять изложение этикету, создавать литературные каноны можно объяснить и обычный в средневековой литературе перенос отдельных описаний, речей, формул из одного произведения в другое. В этих переносах нет сознательного стремления обмануть читателя, выдать за исторический факт то, что на самом деле взято из другого литературного произведения. Дело просто в том, что из произведения в произведение переносилось в первую очередь то, что имело отношение к этикету: речи, которые должны были бы быть произнесены в данной ситуации; поступки, которые должны были бы быть совершены действующими лицами при данных обстоятельствах; авторская интерпретация происходящего, приличествующая случаю, и т. д. Должное и сущее смешиваются. Писатель считает, что этикетом целиком определялось поведение идеального героя, и он воссоздает это поведение по аналогии. <���…>
Определяя художественный метод древнерусской литературы, недостаточно сказать, что он клонился к идеализации. <���…> Идеализация средневековая в значительной степени подчинена этикету. Этикет в ней становится формой и существом идеализации. Этикет же объясняет заимствования из одного произведения в другое, устойчивость формул и ситуаций, способы образования…распространенных редакций произведений, отчасти интерпретацию тех фактов, которые легли в основу произведений, и мн. др.
…Средневековый писатель ищет прецедентов в прошлом, озабочен образцами, формулами, аналогиями, подбирает цитаты, подчиняет события, поступки, думы, чувства и речи действующих лиц и свой собственный язык заранее установленному…чину. <���…> Писатель жаждет ввести свое творчество в рамки литературных канонов, стремится писать обо всем…как подобает, стремится подчинить литературным канонам все то, о чем он пишет, но заимствует эти этикетные нормы из разных областей: из церковных представлений, из представлений дружинника-воина, из представлений придворного, из представлений теолога и т. д. Единства этикета в древней русской литературе нет, как нет и требований единства стиля. Все подчиняется своей точке зрения. <���…>
Из чего слагается этот литературный этикет средневекового писателя? Он слагается из представлений о том, как должен был совершаться тот или иной ход событий; из представлений о том, как должно было вести себя действующее лицо сообразно своему положению; из представлений о том, какими словами должен описывать писатель совершающееся. Перед нами, следовательно, этикет миропорядка, этикет поведения и этикет словесный. Все вместе сливается в единую нормативную систему, как бы предустановленную, стоящую над автором и не отличающуюся внутренней целостностью, поскольку она определяется извне предметами изображения, а не внутренними требованиями литературного произведения.
… [Причем] все эти словесные формулы, стилистические особенности, определенные повторяющиеся ситуации и т. д. применяются средневековыми писателями вовсе не механически, а именно там, где они требуются. <���…> Повторяющиеся формулы и ситуации вызываются требованиями литературного этикета, но сами по себе еще не являются шаблонами. Перед нами творчество, а не механический подбор трафаретов творчество, в котором писатель стремится выразить свои представления о должном и приличествующем, не столько изобретая новое, сколько комбинируя старое.
… Средневековый читатель, читая произведение, как бы участвует в некоей церемонии, включает себя в эту церемонию, присутствует при известном…действии, своеобразном…богослужении. Писатель средневековья не столько изображает жизнь, сколько преображает и…наряжает ее, делает се парадной, праздничной. Писатель церемониймейстер. Он пользуется своими формулами как знаками, гербами. Он вывешивает флаги, придаст жизни парадные формы, руководит…приличиями.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: