Александр Широкорад - Польша. Непримиримое соседство
- Название:Польша. Непримиримое соседство
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Вече
- Год:2011
- Город:Москва
- ISBN:978-5-9533-5824-8
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Александр Широкорад - Польша. Непримиримое соседство краткое содержание
Отношения двух славянских народов в течение последнего тысячелетия были сложными и порою драматичными. В X–XIII веках русские и польские князья активно сотрудничали: торговали, создавали военные союзы. Большинство польских княгинь было из рода Рюрика. Случались и войны, но не между народами, а между князьями: один звал другого, ляха или руса, против третьего.
Впоследствии, однако, вмешательство католической церкви и произвол польских магнатов разделили два народа. В XIX–XX веках неоднократно предпринимались попытки их примирить. На десятки лет устанавливалось взаимовыгодное сотрудничество, но, увы, всегда находились силы, заставлявшие забывать о единых славянских корнях.
Польша. Непримиримое соседство - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Чтобы понять дальнейшее, следует сказать несколько слов о положении православных и их духовных вождях. Одним из таких вождей стал игумен Мелхиседек, в миру Михаил Значко-Яворский. Михаил писал о себе: «Родился я, смиренный, в Малороссии, в полку Лубенского, в самом полковом городе Лубна, от родителей благочестивых, из рода древних Косташив-Яворских, а именно из названного полка есаула Карла Ильича, прозванного Значком» [74] Мартовский Ю. Матронинский монастырь. С. 19.
.
После домашнего образования Михаил учился в Киевской академии, где прошёл курс всех наук, включая философию. Он был усердным и одарённым студентом. Занявшись иностранными языками, к концу обучения в академии Михаил уже свободно владел латинским, греческим, немецким, еврейским и польским. Кроме того, он интересовался медициной. В 1738 г. Михаил окончил академию и поступил послушником в Матронинский Свято-Троицкий монастырь. В тот момент этот монастырь считался одной из самих нищих обителей Правобережья, которых там было пятнадцать. Во время обороны Чигирина (1677–1678 гг.) Матронинский монастырь был сожжён дотла. Когда в обитель пришёл Ми-хаил, монастырь имел лишь деревянную церковь и убогие монашеские кельи. Монашеский постриг он принял в 1745 г. — семь лет Михаил готовился к этому ответственному шагу.
В 1753 г. монахи Матронинского монастыря избрали себе нового игумена, которым и стал Мелхиседек, не достигший ещё и сорока лет. В 1761 г. Переславский епископ Гервасий назначил Мелхиседека правителем всей Церкви на Правобережной Украине, оставив его при этом и игуменом монастыря. После долгого периода бесправия и разлада впервые появляется официальная церковная власть. Под управлением Мелхиседека оказалось 530 храмов.
Поляки всячески пытались дискредитировать игумена Мелхиседека. Беглый матронинский монах Аминадав со своим свояком поляком Болецким написал донос, что Яворский имеет связь с запорожцами. После этого в Матронинскую обитель вошёл польский отряд и игумена арестовали. Его возили по нескольким городам, пытали, но, ничего не добившись, отпустили.
Чтобы защитить паству от бесчинства поляков, Мелхиседек в качестве последнего средства обратился за помощью к Екатерине II. 5 марта 1765 г. он отправился в Петербург. Там игумен пробыл два месяца и добился аудиенции у императрицы. Он упросил Екатерину II передать грамоту российскому послу в Польше князю Репнину с указанием вступиться за православных. Также Мелхиседек получил охранный паспорт и существенную материальную помощь для восстановления православных храмов — пятнадцать тысяч рублей.
Когда Яворский возвращался домой, в город Паволоч, один униатский священник попытался отравить его, но игумен остался жив. В Белополье игумен был избит польскими солдатами (несмотря на охранный паспорт). Лишь в сентябре 1765 г. Мелхиседек вернулся в свой монастырь и почти сразу отправился в Варшаву. Зная это, польский пан Иосиф Добровлянский со своим войском напал на Мошногорский монастырь и разграбил его.
В начале 1766 г. в Варшаве Мелхиседек встретился с князем Репниным и передал ему грамоту. После этого польскому королю были предоставлены документы, составленные лично игуменом. В них он перечислял все изуверства, какие происходили на Правобережной Украине. Под нажимом Репнина и при обилии конкретных фактов король приказал заместителю канцлера передать униатскому митрополиту Пилипу Володкевичу требование прекратить насилие и наказать виновных. Такие же требования были переданы польским вельможам, которые владели Украиной. Король Речи Посполитой Станислав-Август Понятовский также подтвердил все документы, которые были даны его предшественниками в пользу православной церкви.
Королевские указы вызвали обратную реакцию панов. (Что поделаешь? Польша!) Когда же в малороссийских церквах началось чтение королевского привилея, ограждавшего свободу православия, «это с одной стороны, привело к массовому возвращению униатов в православие, с другой — довело до исступления их врагов и вызвало этих последних на новые жесточайшие преследования исповедников православия.
Польша находилась тогда в периоде полного разложения; то была пора полного бессилия закона и всякой власти, не исключая и королевской. Распущенная шляхта цинично глумилась над выданным королевским привилеем, указывая для него самое непристойное назначение; шляхтич Хайновский азартно кричал: „и королю отрубят голову за то, что схизматикам выдал привилей“.
Возвращение к православию только что приневоленных „боем нещадным“ к унии сочтено было бунтом, ходатайство Мелхиседека пред императрицею и королём — тяжким преступлением, сам он объявлен бунтовщиком, достойным самой тяжкой кары. Такой декрет выдан был на него и на всех не покоряющихся унии от радомысльской униатской консистории. Видно, упомянутые письма вице-канцлера ценились ещё менее, чем королевский привилей. Этим декретом отпавшие от унии священники объявлялись лишёнными своих мест и подлежащими строгому телесному наказанию и изгнанию, на непокорные громады налагались огромные денежные штрафы, с обращением их на постройку миссионерского дома и содержание миссионеров унии. И всё это должны были привести в исполнение агенты помещичьей власти, под опасением суда латинской консистории…
Сам Мелхиседек потребован был к суду униатского официала [митрополита. — А. Ш. ] Мокрицкого. Командам пограничных форпостов на Днепре отдан был строжайший приказ не пропускать никого в Переяслав, сношения внутри в такой степени были стеснены, что, по выражению Мелхиседека, никуда не пускали „а ни человека, а ни жида“. Всякая попытка пробраться к епископу для рукоположения, получения антиминса или иной надобности наказывалась самым жестоким, киёв в триста, боем.
На одном из таких форпостов схвачен был и Мелхиседек, возвращавшийся из Переяслава, и, после всевозможных личных над ним насилий и издевательств, завезён был в кандалах на Волынь и там, в м. Грудке, замурован в каменной тюрьме, где едва не лишился жизни. [Лишь указы Екатерины II заставили освободить его. — А. Ш. ].
Вступившее пред тем в Украину польское войско, так называемая украинская партия, под командою Воронича, навела ужас на всё живущее. Начались страшные поборы на войско, народ массами сгоняли на работы в обоз под м. Ольшаной. Воронич рассылал летучие отряды для усмирения бунтующихся, т. е. не желающих принять унии, и карал жестоко. Сопровождавшему Мелхиседека в Переяслав сотнику жаботинскому Харьку отрублена голова в конюшне, млиевский ктитор Даниил Кушнир всенародно сожжён в обозе под местечком Ольшаной. В то же время униатской официал Мокрицкий, утвердивши свою резиденцию в Корсуне, с толпою инструкторов и инстигаторов, с отрядами вооружённых козаков, разъезжал по Украйне, брал с бою церкви, ловил монахов и священников, бил их смертно, заковывал в железа, забивал в кандалы и под караулом отправлял в Радомысль, где им снова давали по 600 и 800 ударов, бросали в смрадные ямы, заставляли тачками возить землю.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
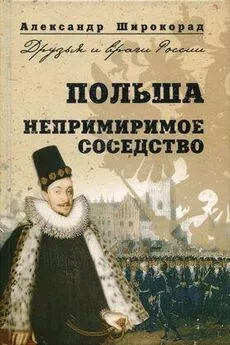

![Александр Широкорад - Тайны русской артиллерии. Последний довод царей и комиссаров [с иллюстрациями]](/books/187233/aleksandr-shirokorad-tajny-russkoj-artillerii-posl.webp)


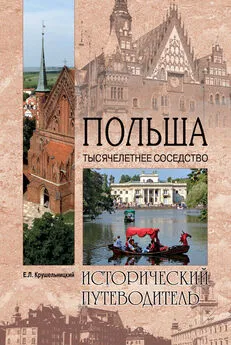

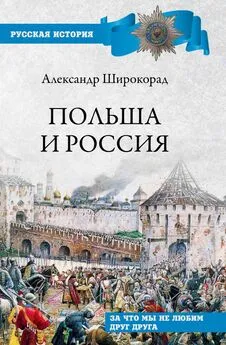


![Александр Широкорад - Давний спор славян. Россия. Польша. Литва [с иллюстрациями]](/books/1138398/aleksandr-shirokorad-davnij-spor-slavyan-rossiya-po.webp)