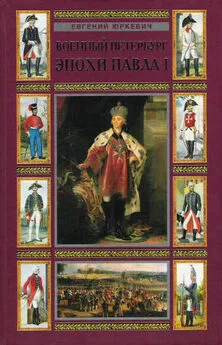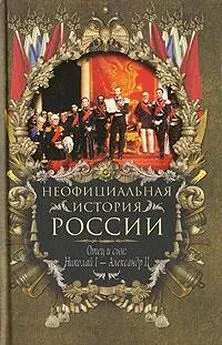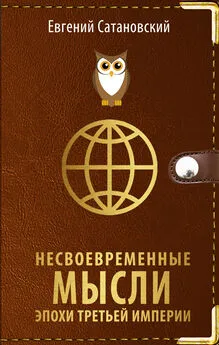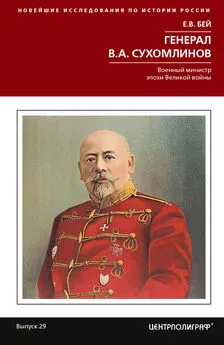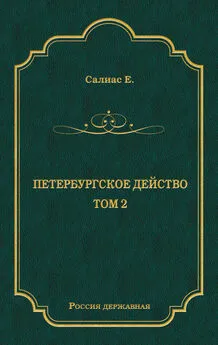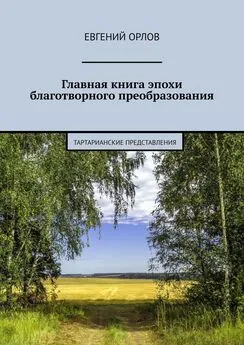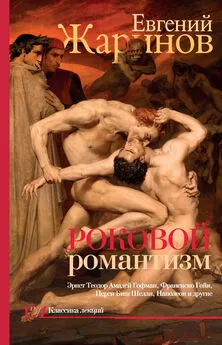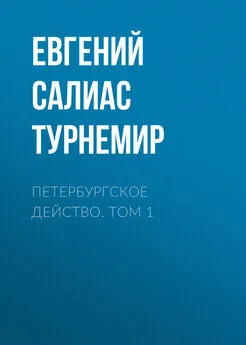Евгений Юркевич - Военный Петербург эпохи Павла I
- Название:Военный Петербург эпохи Павла I
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Евгений Юркевич - Военный Петербург эпохи Павла I краткое содержание
Книга посвящена военным реформам Павла I начиная с создания им Гатчинских войск еще в бытность наследником престола. Дана подробная информация о нововведениях в солдатском обмундировании, описаны развитие военного строительства в столице и пригородах, повседневная служба Петербургского гарнизона, смотры, маневры, торжественные церемонии с участием войск. В книге использованы разнообразные архивные документы и свидетельства современников, позволяющие по-новому взглянуть на преобразования в военном деле и на личность самого императора.
Военный Петербург эпохи Павла I - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Примером истинно отеческого отношения Павла к солдатам может служить и тот факт, что Император стал крестным отцом более тридцати детей нижних чинов Лейб-Гвардии Преображенского полка и Лейб-Гвардии Артиллерийского батальона 27. А трем преображенцам – рядовым Ивану Яковлеву и Власу Давыдову и унтер-офицеру Андрею Манцурову – выпала честь «по соизволению Государя» сыграть свадьбы в Большой церкви Зимнего дворца 28.
Особенно ярко преданность солдат Павлу проявилась после его убийства. Так, Лейб-Гвардии Конный полк, по воспоминаниям Н. А. Саблукова, отказался присягать Александру, пока нескольким специально отряженным солдатам не было показано тело покойного Государя 29.
«Император Павел, несмотря на всю свою строгость и вспыльчивость, любил солдата, и тот чувствовал это и платил ему тем же, – писал А. А. Керсновский. – Безмолвные шеренги плачущих гренадер, молча колеблющиеся линии штыков в роковое утро 11 марта 1801 года являются одной из самых сильных по своему трагизму картин в истории русской армии» 30.
«Кадеты любили покойного Государя, и многие из нас заплакали», – вспоминал Ф. В. Булгарин о получении в 1-м Кадетском корпусе известия о смерти Императора 31. Он же писал и об особой чести, предоставленной кадетам 1-го Кадетского корпуса – содержать караул у гроба Павла Петровича в Михайловском замке, а во время похоронной процессии следовать впереди и позади погребальной колесницы под ружьем и со знаменами (кадеты 2-го Кадетского корпуса шли по бокам колесницы всего лишь с факелами). И только кадеты 1-го корпуса вошли во время церемонии погребения под ружьем внутрь Петропавловской крепости, в то время как остальные части гарнизона выстраивались за ее гласисом 32.
В мемуарах современников царствование Павла характеризуется зачастую огромным количеством нелепых распоряжений, в том числе и касающихся военной службы 33. Но нелепыми эти распоряжения выглядели чаще всего вопреки воле монарха.
«Тяжесть службы еще увеличивалась тем обстоятельством, что высшие начальники, исполняя Высочайшие повеления, проводили их в жизнь со своими дополнениями, – писал В. К. Судравский. – Очень часто эти дополнения носили весьма курьезный характер и вторгались в область, имевшую мало общего с военной службой. Так, например, Император Павел приказал исключить из ученого словаря несколько русских слов и, заменив их немецкими, приказал не употреблять ни в разговоре, ни в письмоводстве. По этому повелению слова „стража“, „отряд“, „исполнение“, „объявление“ были заменены „караулом“, „деташементом“, „экзекуцией“ и „публикацией“. Получив Высочайшее повеление, командир Лейб-Гренадерского полка приказал, по рассказам современников, полковому священнику петь на заутрени ирмос вместо „на божественной страже богоглаголивый Аввакум“ – „на божественном карауле“. Другой командир полка запретил офицерам отлучаться из квартир и приказал им при каждом выходе просить разрешения у баталионного командира; этот же командир полка запретил нижним чинам ездить на извозчиках и приказал им обязательно ходить пешком. После Высочайшего повеления, чтобы гренадеры носили усы и бакенбарды, некоторые командиры полков Петербургского гарнизона приказали нижним чинам, не имевшим своих усов и бакенбард, наклеивать искусственные» 34.
Чрезмерная ретивость начальников становилась порой причиной весьма неприятных инцидентов. Так, в 1800 г., после повеления Павла изъять из полков и сжечь знамена обр. 1786 г., многие полковые командиры взялись за дело столь рьяно, что оказалось сожжено и множество знамен более ранних образцов 35.
Но далеко не всегда распоряжения Павла искажались по недомыслию или от излишнего усердия. Нередко это делалось и специально, и более всего преуспел в этом уже знакомый нам граф П. А. Пален.
«Как военный губернатор, имея в своем распоряжении Гвардию, полицию, заставы, и как министр внутренних дел, заведуя внешними сношениями и перлюстрацией почты, причем вообще все повеления Государя шли через его руки, Пален систематически пользовался всякой вспышкой Павла и так грубо безжалостно проводил немедленно в исполнение его приказы, чтобы создавать недовольство всюду и размножать врагов Павла, – писал автор предисловия к сборнику „Цареубийство 11 марта 1801 года“. – Эта адская махинация тем легче могла быть приведена в действие, когда Павел заперся в Михайловском замке. Именем государя правил Пален, и правил так, что, действительно, и за границей, и внутри России создавалось впечатление, что правит сумасшедший деспот. Но когда Павел узнавал о том, как жестоко исполнялось его приказание, он делал все, чтобы исправить причиненное зло. Не в расчетах Палена, однако, было давать эту возможность государю. Постоянно повторяемые обвинения Павла в том, что он запрещал круглые шляпы, жилеты и фраки, усматривая в них „якобинство“, требовал, чтобы при встрече с ним дамы останавливали кареты и выходили, – конечно, справедливы. Но особенно потому, что Паленом делалось все, чтобы требования государя выполнялись с бессмысленной жестокостью, последовательностью, крайностью. Сколько раз Павел Петрович, подъезжая к карете, просил даму не беспокоиться.
Собрав все причины недовольства, должно признать, что, при всех недостатках характера Павла, без коварной провокации графа Палена это недовольство не разрослось бы в такой степени. Крутая муштровка, регламентация обывательской жизни, придирки и стеснения были и после Павла. А все терпели.
Замечательно, что самое спокойное время в 1800 г. в Петербурге было в сентябре и в октябре, когда граф Пален был назначен командовать армией на русской границе, а должность петербургского военного губернатора с 14 августа исполнял генерал от инфантерии Свечин» 36.
А вот приказ, отданный в феврале 1800 г. комендантом Михайловского замка генерал-лейтенантом Н. О. Котлубицким начальнику замкового караула в связи с якобы имеющимся распоряжением Павла о том, чтобы все, кто проходит перед императорскими резиденциями, снимали головные уборы: «Чтобы часовые отнюдь не приказывали скидать шляп и шапок проходящим, а оставляли на их волю (а когда будет повелено, то об оном будет и особо предписано)» 37.
Впрочем, понятно, что Пален действовал в интересах антипавловского заговора.
Заговор и убийство Императора Павла являются, бесспорно, одной из самых черных и позорных страниц в истории русской Гвардии. Заговорщики действовали отнюдь не в интересах России и народа, как заявляли потом, пытаясь оправдаться. «На этот раз заговорщиками руководила не столько забота о благе государства, сколько своекорыстные интересы…» – писал А. М. Валькович 38.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: