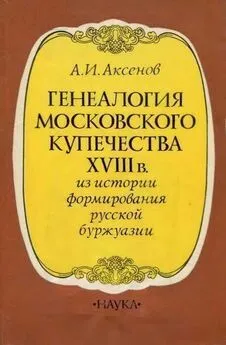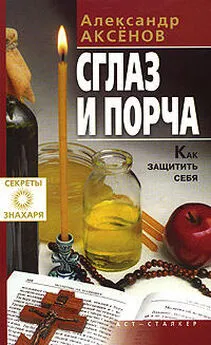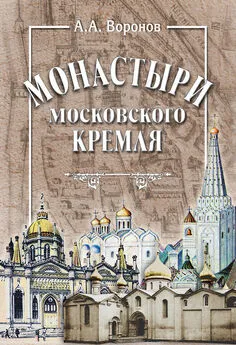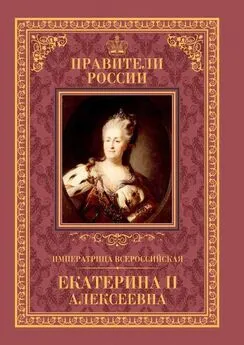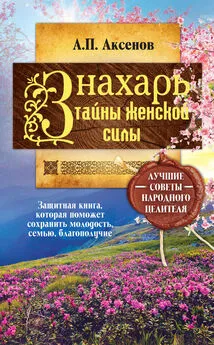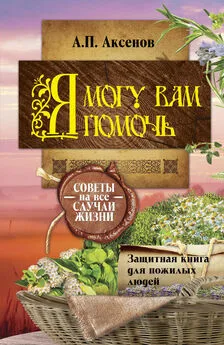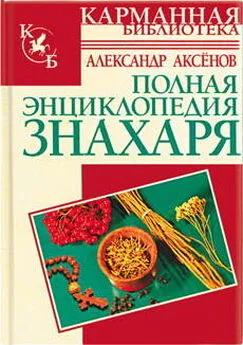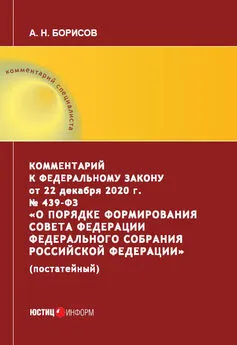Александр Аксенов - Генеалогия московского купечества XVIII в. (Из истории формирования русской буржуази)
- Название:Генеалогия московского купечества XVIII в. (Из истории формирования русской буржуази)
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Наука
- Год:1988
- Город:Москва
- ISBN:5-02-008426-3
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Александр Аксенов - Генеалогия московского купечества XVIII в. (Из истории формирования русской буржуази) краткое содержание
Монография посвящена историко-генеалогическому изучению двух сменяющих друг друга на протяжении XVIII в. групп московского купечества: гостей и гостиной сотни, с одной стороны, 1-й гильдии и именитых граждан, с другой стороны. Выясняются происхождение, судьбы, семейные связи купеческих фамилий, их торгово-промышленная деятельность, степень устойчивости купеческого рода и ее зависимость от различных факторов.
Генеалогия московского купечества XVIII в. (Из истории формирования русской буржуази) - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Примеров, подобных этим, насчитывается, как было сказано, 10. Три из них относятся к выходцам из крестьян (из 6 фамилий, установивших в первом поколении семейные отношения с москвичами): А. П. Годовиков переехал в Москву в 1762 г., женившись до 1759 г. на дочери купца Мещанской слободы И., Шапошникова; Василий Петров стал москвичом после 2-й ревизии, женившись на дочери тяглеца Барашской слободы Льва Дмитриева; Степан Калинин был причислен к московскому обществу в 1743 г., находясь в браке с дочерью московского купца Ф. Г. Скобеникова. Семь остальных относятся к иногородним купцам. Кроме Ваныкина и Драгутина, для причисления к московскому купечеству Е. Дудышкин использовал брак с дочерью московского шелкового фабриканта Е. С. Зайцева, А. В. Зубков – свойство с московским купцом И. Ф. Уткиным, А. И. Захаров – с С. И. Горским, Д. Ф. Фалеев – с С. П. Васильевым, П. Ф. Драншев – с С. В.,Ширяевым 113*.
В процентном отношении количество иногородцев, использовавших семейные отношения при зачислении в московское купечество, не столь велико, как, скажем, у крестьян. Среди выходцев из провинциальных купцов их всего 33% (7 из 21), тогда как у крестьянских выходцев – 50% (3 из 6). Это объясняется разницей в условиях перехода в Москву тех и других. Крестьяне, которые в равной мере испытывали трудности причислиться к московскому купечеству и жениться на купеческой дочке, представляли себе поэтому всякую возможность такого брака исключительно как средство самому стать московским купцом. Для провинциальных купцов путь перехода в московское купеческое общество был более доступен по официальным каналам, и потому установление семейных связей с московскими родами каждый из них рассматривал еще и как «случай» подняться выше по сословной купеческой лестнице. Это находит подтверждение и в том факте, что 14 из 21 фамилии иногородцев 114*, заключивших брачные союзы с москвичами, в первом поколении прибыли в Москву холостыми, рассчитывая на удачный брак и хорошее приданое. Однако если крестьяне испытывали сложности при установлении семейных отношений ввиду межсословных различий, то иногородние купцы сталкивались с проблемой социальной замкнутости на разных уровнях одного сословия. Переселяясь в Москву безвестными провинциальными торговцами, нельзя было всерьез рассчитывать на то, чтобы жениться на дочке какого-либо видного и богатого московского купца. Не случайно из 21 фамилии иногородцев, в первом поколении установившей родственные отношения с москвичами, только у 6 свойственниками были купцы 1-й гильдии. У К. Е. Горбунова тестем был первогильдеец, представитель одной из ветвей довольно крупной в середине XVIII в. фамилии суконных фабрикантов Михаил Еремеев, у Ерофея Дудышкина – содержатель шелковой фабрики Е. С. Зайцев, у Д. Ф. Фалеева – шедший в гору С. П. Васильев, у М. А., Шапошникова – московский 1-й гильдии купец А. И. Шошин. Еще двое, П. П. Жегалкин и И. И. Ливенцов, женились на дочерях таких же, как они, хотя и несколько ранее, «прибылых», но находящихся на подъеме, купцов: И. М. Хилкова и А. И. Потепалова. Среди аналогичной группы разночинцев только П. А. Андронов взял в жены дочь 1-й гильдии купца С. М. Нестерова. Все другие, и из иногородцев и из разночинцев, не говоря уже о крестьянах, переселяясь в Москву, довольствовались браками с малозначительными купеческими семьями 3-й или в лучшем случае 2-й гильдии. Это не значит, что семейные связи с ними ничего не давали вновь прибывшим в московское купечество. Конечно, такие отношения не могли поднять их сразу в высший разряд купеческого общества. Заметим, кстати, что даже из тех, кто сразу по прибытии вступил в родство с первогильдейцами, только Дудышкины и Андроновы были зачислены в 1-ю гильдию. Однако для нйх не удачный брак определил этот взлет, а само именитое родство было обусловлено их предпринимательской деятельностью – братьев Дудышкиных в качестве шелковых фабрикантов 115*и П. А. Андронова как винного торговца в питейных погребах 116*. Вот почему браки .«прибылых» с рядовыми московскими купцами не приводили к головокружительной карьере, но являлись прочным основанием для того, чтобы, развернув скромное вначале дело, подняться в купеческую верхушку.
До сих пор мы говорили преимущественно о брачных связях первого поколения «прибылых» первогильдейцев. Между тем родственные отношения не только оказывали влияние на особенности формирования, связанные с происхождением, но отражали также характерные черты развития всех купеческих фамилий 1-й гильдии конца XVIII в. Не ставя перед собой задачу подробно и в полном объеме осветить становление семейных связей среди них, мы обратимся к наиболее общим закономерностям, и прежде всего к проблеме соответствия брачных союзов положению купеческих родов, семей и отдельных их членов.
Первогильдейское купечество, хотя и занимало высшее положение в купеческом сословии, не было однородной массой. Непрерывное развитие приводило к упадку одни фамилии и к возвышению другие. Даже и среди этого разряда купечества были выдающиеся члены, но были и рядовые. Семейные связи чутко отражали процесс расслоения, в результате чего складывались группы первогильдейцев определенного уровня. Характерно, что самые значительные из них формировались вокруг не только экономически наиболее сильных, но и наиболее «старых» среди московских первогильдейцев конца XVIII в.- «природных» и тех, что прибыли в Москву еще в первой четверти XVIII в. Особенно примечателен тот факт, что связаны семейными узами оказывались прежде всего промышленные фамилии. В родственных отношениях состояли такие виднейшие московские роды и владельцы различных фабрик, как Журавлевы, Струговщиковы, Шорины, Емельяновы, Рыбинские, Бабкины, Ситниковы, Шапошниковы (см. схему 1). В кругу их свойственников находился целый ряд московских первогильдейцев конца XVIII в.: Ратковы, Андроновы, Драгутины, Забелины, Малюшины, Медветковы, Пивоваровы и др. Не случайно также, что эта группа тесно примыкала по семейным каналам к высшему разряду московского купечества конца XVIII в.- именитым гражданам Бабушкиным, Долговым, Колосовым, Гусятниковым, Суровщиковым и т. д. (о них см. четвертую главу). В родстве с ними через Колосовых состояли крупные суконные и шелковые фабриканты Баташевы и Москвины (Осип Яковлевич Москвин был женат на дочери Ивана Кирилловича Баташева, Татьяне) 117*.
Вторая крупная группировка, связанная родственными отношениями, была представлена, пожалуй, самыми значительными из «прибылых» московских промышленников. Сюда входили ситцевые фабриканты Грачевы и Солодовщиковы, шелковые – Блохины, владельцы красочной фабрики и фабрики сусального золота Ямщиковы, торговцы сальным и свечным товаром Шевалдышевы (см. схему 2). Кроме них, можно еще отметить свойство сургучных и кожевенных «заводчиков» Хилковых и Котельниковых (Екатерининская слобода), а также Жегалкиных (см. схему 3).
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: