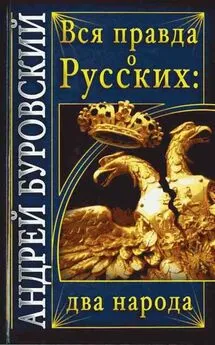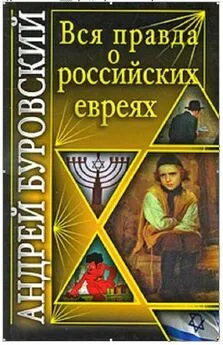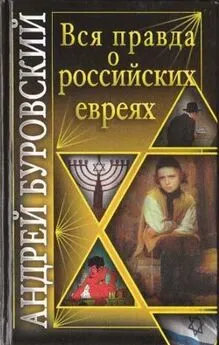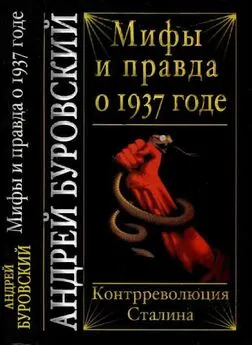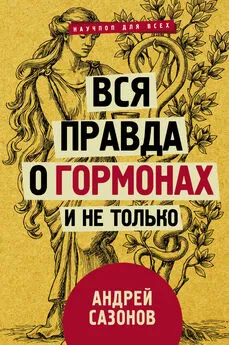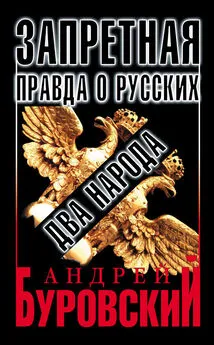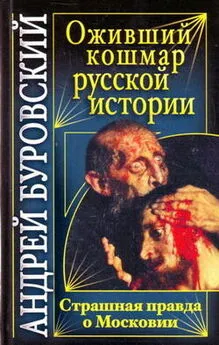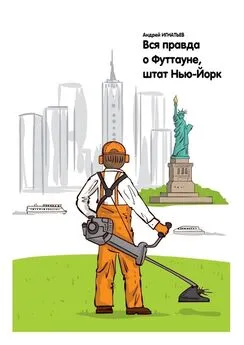Андрей Буровский - Вся правда о Русских: два народа
- Название:Вся правда о Русских: два народа
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Яуза
- Год:2009
- Город:Москва
- ISBN:978–5–699–34269–3
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Андрей Буровский - Вся правда о Русских: два народа краткое содержание
Новая сенсационная книга от автора бестселлеров «Арийская Русь», «Гражданская история безумной войны» и «Евреи, которых не было». Очередной историко-литературный скандал от главного «возмутителя спокойствия». Самый независимый взгляд на прошлое, самые шокирующие выводы и прогнозы на будущее.
Этой книгой можно возмущаться, с ней можно (и нужно!) спорить, ее можно проклинать, но читать — обязательно!
Вся правда о Русских: два народа - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
При Александре II, с 1856 года, дворянином становился только достигший IV класса, — а ведь этот класс жаловал только лично царь. В 1856 году вводится даже особое сословие «почетных граждан» — выслужившихся чиновников; людей вроде бы и уважаемых, но как бы все-таки и не дворян… В результате если офицеров-недворян и в XIX веке немного, порядка 40 % всего офицерства, то в 1847 году чиновников с классными чинами было 61 548 человек, а из них дворян — меньше 25 тысяч человек.
А есть же еще внетабельное чиновничество — низшие канцелярские служащие, не включенные в табель и не получающие чинов: копиисты, рассыльные, курьеры и прочие самые мелкие, незначительные чиновники. Их число было треть или четверть от всех чиновников. В их рядах дворянин — исключение.
«В результате к началу XIX века сформировался особый социальный класс низшего и среднего чиновничества, в рамках которого фомы опискины воспроизводились от поколения к поколению». [23] Оболонский А. На службе государевой: зеркало бюрократии // Посев. 2000. № 12. — С. 29.
В 1857 году 61,3 % чиновников составляли разночинцы. Впервые неопределенное слово «разночинец» употреблено еще при Петре, в 1711 году. В конце XVIII века власти официально разъяснили, кто они такие — разночинцы: в их число попадали отставные солдаты, их жены и дети, дети священников и разорившихся купцов, мелких чиновников (словом, те, кто не смог закрепиться на жестких ступеньках феодальной иерархии). Им запрещалось покупать землю и крестьян, заниматься торговлей. Их удел — чиновничья служба или «свободные профессии» — врачи, учителя, журналисты, юристы и так далее.
Само правительство Российской империи создало слой, расположенный ниже дворянства, но обладающий многими его привилегиями — пусть в меньшем объеме. Со времен Петра III чиновник имеет право на личную неприкосновенность — за любую провинность его не выпорют. Он может получить паспорт для заграничного путешествия, отдать сына в гимназию, а в старости ему дадут ничтожную, но пенсию. И уж конечно, с самым зашуганным Акакием Акакиевичем полиция будет говорить совсем не так, как с не чиновным, не служилым.
Чиновник может быть очень беден, может прозябать в полном ничтожестве, если сравнить его с богатеями и важными чинами; но все же и он — какой-никакой, а винтик управленческого механизма огромной Российской империи, и все понимают, что он все же не какой-то там.
Служилый люд бреется, одевается в сюртуки, и уже по этим признакам — «русские европейцы».
Казалось бы, это — про служилых, а разночинцы — это и врачи, и учителя, и артисты. Но правительство пытается распространить свои «чиновничье-мундирные» привилегии и для тех, кто по самому смыслу своей деятельности должен был иметь независимый статус.
Павел I ввел почетные звания манфактур-советник, приравненные к VIII классу. «Профессорам при академии» и «докторам всех факультетов» давались IX чины — титулярного советника. Чин невысокий… Помните известную песню?
Он был титулярный советник,
Она — генеральская дочь.
Он робко в любви объяснился,
Она прогнала его прочь.
Пошел титулярный советник
И пьянствовал с горя всю ночь.
И в винном тумане носилась
Пред ним генеральская дочь. [24] Вейнберг П. И. «Он был титулярный советник…» Русская поэзия XVIII–XIX вв.: Антология. М.: Детлит, 1999. — С. 575.
Ученых вообще ценят невысоко, даже Ломоносов лишь под конец жизни получил от Екатерины II чин V класса — чин статского советника.
Но и они ведь тоже все бритые, все в сюртуках и в рубашках европейского образца, все могут внятно произнести «тетрадь» и «офицер», вполне правильно.
Так что дворяне-то они вовсе не обязательно дворяне, эта верхушка купечества, или окончившие гимназии, университеты, институты… Всякий служилый и всякий образованный традиционно, со времен Петра — «европеец» по определению. Правительство пыталось, чтобы каждый в этом кругу имел понятный для всех и однозначный ранг, поставить их, так сказать, в общий строй, сделать как бы чиновниками Российской империи… по ведомству прогресса.
Мундиры в XVIII веке носили даже члены Академии художеств — так сказать, служители муз. А уж для гражданских (!) чиновников существовало 7 вариантов официальных мундиров: парадный, праздничный, обыкновенный, будничный, особый, дорожный и летний — и было подробное расписание, который в какой день надо надевать. Императоры лично не гнушались тем, чтобы вникать в детали этих мундиров, их знаки различия, способы пошива и ношения.
Не меньше внимания и к способам титулования.
К лицам I–II классов надо обращаться ваше высокопревосходительство; к лицам III–IV — ваше превосходительство. К чиновникам с V–VIII рангами — ваше высокоблагородие, и ко всем последующим — ваше благородие.
К середине XIX века окончательно определяется, что высокопревосходительствами и превосходительствами становятся в основном потомственные дворяне. Бывают, конечно, и исключения, но на то они и исключения, чтобы случаться очень редко. Разночинцы доползают в лучшем случае до высокоблагородия, и то не все, только если повезет.
Как ни старается правительство, ему не удается создать стройную феодальную иерархию, где всегда понятно — кто выше кого. Жизнь усложняется и никак в эту иерархию не втискивается. Адвокатов, врачей, артистов, художников, литераторов часто называют «люди свободных профессий» — они могут работать и по найму, и как частные предприниматели, продавая свои услуги.
В Европе люди этих профессий осмысливают себя как особая часть бюргерства. В России их пытаются сделать частью государственной корпорации. Сами же они осознают себя особой группой общества — интеллигенцией.
Писатель Петр Дмитриевич Боборыкин жил с 1836 по 1921 год. За свою долгую, почти 85-летнюю жизнь он написал больше пятидесяти романов и повестей. Его хвалили, ценили, награждали… Но его литературные заслуги напрочь забыты, а в историю Боборыкин вошел как создатель слова «интеллигенция». Это слово он ввел в обиход в 1860-е годы, когда издавал журнал «Библиотека для чтения».
Слово происходит от латинского lntelligentia или Intellegentia — понимание, знание, познавательная сила. Intelligens переводится с латыни как знающий, понимающий, мыслящий. Словом интеллигенция сразу стали обозначать как минимум три разные сущности.
Во-первых, вообще всех образованных людей. В. И. Ленин называл интеллигенцией «…всех образованных людей, представителей свободных профессий вообще, представителей умственного труда…. В отличие от представителей физического труда». [25] Ленин В. И. Полное собрание сочинений. Том пятый. М.: Политиздат, 1963. — С. 309.
Интервал:
Закладка: