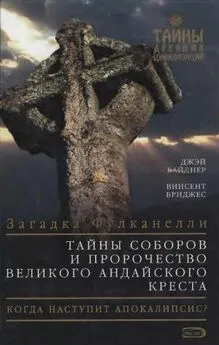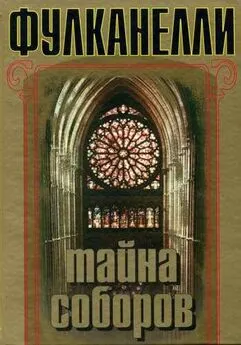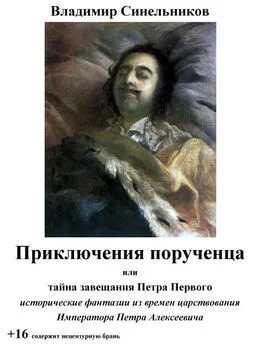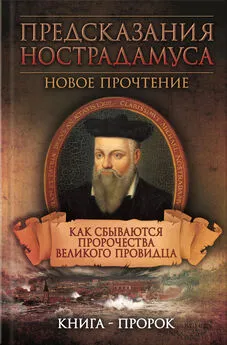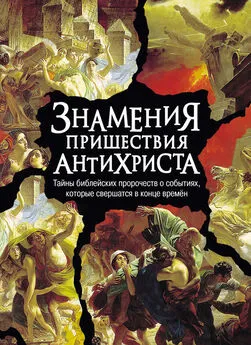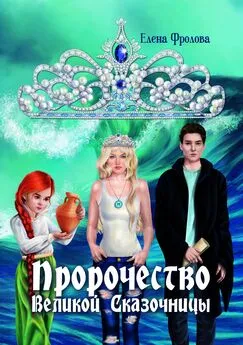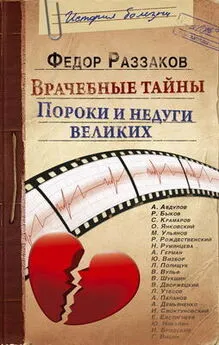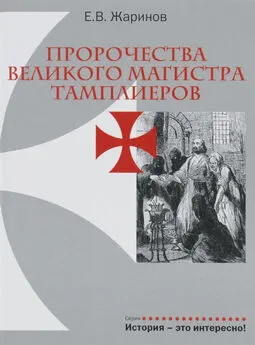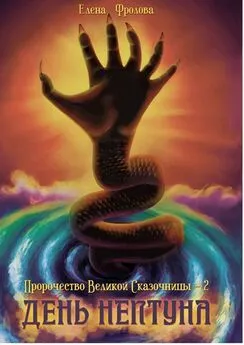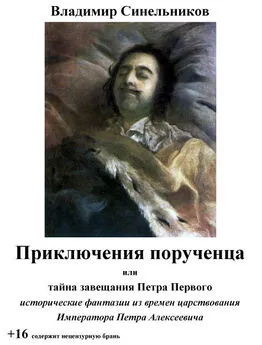Винсент Бриджес - Тайны соборов и пророчество великого Андайского креста
- Название:Тайны соборов и пророчество великого Андайского креста
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:М.: Изд-во Эксмо, 2005. — 688 с., ил.
- Год:2005
- ISBN:5-699-12453-5
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Винсент Бриджес - Тайны соборов и пророчество великого Андайского креста краткое содержание
Архитектура является великой хроникой человечества. Предположение о том, что готические соборы — это книги по магии и алхимии в камне, было выдвинуто еще в XIX веке и с тех пор неоднократно подтверждено многими видными учеными и исследователями. Предчувствуя приближение глобальных перемен и пытаясь сохранить для будущих поколений сакральные оккультные знания о модели Вселенной и предназначении человечества. Посвященные сумели записать в камне информацию, способную помочь человечеству избежать гибели в мировом катаклизме, который, если верить древним пророчествам, должен произойти в этом веке.
Джэй Вайднер и Винсент Бриджес, изучив множество раннехристианских, каббалистических и гностических письменных источников, в том числе легендарную книгу загадочного Фулканелли «Тайны соборов», а также архитектурные памятники в разных частях света, утверждают: точную дату Апокалипсиса можно узнать, если найти ключ к древним посланиям, зашифрованным в орнаментах и фресках католических соборов и строений, дошедших до наших дней.
Тайны соборов и пророчество великого Андайского креста - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Таким образом, если считать богомилов периферийной и параллельно развивавшейся ересью, то в чем же видели свою духовную опору и преемственность катары Прованса и Южной Франции? Очевидно, что один из источников ереси — традиция примитивного христианства, издревле существовавшая в этих краях. До наших дней почти чудесным путем сохранились два списка внешних ритуалов катаров, один из которых написан на французском, а другой — на аквитанском языке. Молитва из этого ритуального чинопоследования прямо указывает на раннюю ветвь христианства, пронизанного гностическими и иудейскими мотивами: «Святой Отец, Ты — справедливый Бог и Судия всех праведных душ… Позволь нам познать то, что Ты знаешь, возлюбить то, что Ты любишь, ибо мы — не от мира сего, и мир сей — не для нас, и мы более всего боимся встретить смерть в этом мире, лежащем во власти враждебного бога». Этот враждебный бог и есть Демиург гностиков.
Молитва заканчивается любопытным поворотом темы, описывающим источник Божественного начала в чисто катарских категориях: «…и Бог снизошел с небес… и восприял призрачный образ в Святой Марии». Для катаров Мария была не физической матерью, матерью по плоти воплотившегося Бога, а вратами или порталом, через который Гнозис, являющий Себя в первоначальном значении греческого слова Апокалипсис (откровение), вошел в мир. В этом смысле Мария — это София или, согласно иудейской космогонической концепции, Шехина [134].
Французский историк инквизиции Жан Гиро утверждал, что даже при самом критическом и редукционистском подходе к свидетельствам необходимо признать, что катары действительно обладали некими весьма древними документами, непосредственным источником вдохновения для которых служили предания первоначальной церкви. Он пришел к выводу, что сходство ритуалов посвящения у катаров и крещения катехуменов во II в. настолько разительно, что они, видимо, были в древности одним и тем же обрядом. Различие между ними, естественно, заключалось в том факте, что ритуал отречения от сатаны у крестителей II в. трансформировался у катаров в ритуал отречения от римской церкви. В свете таких взглядов еретической предстает уже римско-католическая церковь, а катары, с их более древней и непосредственной интерпретацией христианства, являются «единственно истинной церковью».
Быть может, аристократы, вступавшие в ряды тамплиеров и с таким жадным интересом слушавшие романы о Святом Граале, рассматривали это как составное звено возрождения гностицизма? Вполне возможно, что так оно и было, поскольку Кретьен де Труа, первый и крупнейший из всех поэтов, воспевавших Грааль, по всей вероятности, был катаром. В своей ранней поэме «Эрек и Энида», созданной ок. 1170 г., Кретьен вполне определенно выражает основное ядро идей, носителями которых были как трубадуры, так и катары: «Что мне сказать о красоте ее? / По-истине она сотворена / Чтоб люди любовались на нее, / Как в зеркале, прозрев Лицо свое».
Для Кретьена, как и для всех поклонников «куртуазной любви», красота возлюбленной была отражением вечной Красоты Божьей. Это — отражение иудаистической мистической идеи невесты Бога, Шехины [135], которая являет собой воплощение «красоты» Божьего творения, воспетой в знаменитой ветхозаветной книге «Песнь Песней», приписываемой царю и пророку Соломону.
Среди суфиев-шиитов [136]концепция Шехины [137]трансформировалась в учение о том, что «женская красота — это по преимуществу явление Бога в зримом образе». Основанием для этого служит высказывание пророка: «Я видел Бога моего среди самых прекрасных творений». В индуизме, в учении Тантраяны, находим ту же идею: «Каждая обнаженная женщина суть воплощение пракритт. Хотя с точки зрения их оппонента, ортодоксальной римско-католической церкви, катары воспринимались как эстеты и дуалисты, считавшие этот мир воплощением злого начала, это не совсем точно отражает установки, господствовавшие внутри самой ереси. Однако, судя по уцелевшим фрагментам их литургий и культовых практик, катарам была присуща скорее вера в совершенство материи, а не в то, что материя — это источник абсолютного зла. Как у катаров, так и у трубадуров, одинаково ценивших это медитативно-созерцательное восприятие красоты как проявление высшего совершенства материи, возлюбленная выполняла роль промежуточного звена между откровенной оргией и утонченным эстетизмом.
Трубадуры Южной Франции создали особый стиль жизни и поэтические формы, основанные на идеалах романтической любви того времени, рубежа XII в., когда скорее можно было бы ожидать, что на литературе Европы должна тяготеть печать воинственного духа Крестовых походов. Трубадуры развивались и творили в ту же эпоху и в том же пространстве, где действовали катары, и их поэзия — это отражение той же картины мира. В то время как совершенные проповедовали простолюдинам, трубадуры пели почти исключительно для аристократов, которые в большинстве случаев питали явные симпатии к катарам. Их влияние чувствуется и в творениях Данте и Петрарки, который признавал, что любовные песни Бертрана де Вентадорна, обращенные к герцогине Элеоноре Аквитанской, почти столь же совершенны, как и его собственные.
Слово трубадур представляется несколько туманным и загадочным. Считается, что оно происходит от провансальского trobar, что означает «обретать» или «изобретать», слова, в семантическом поле которого присутствует идея поиска, все равно — любви, Святого Грааля или просветления. Однако не исключено, что термин «трубадур» происходит от арабского tarraba, что значит «петь». Кстати сказать, некоторые особенности лирической манеры, использовавшиеся трубадурами, сохраняли арабскую метрику [138]и даже систему рифм.
Так, излюбленный трубадурами лирический жанр — альба [139], представляющая собой цепочку строф, завершающихся одинаковым словосочетанием или рифмой, до сих пор является формой, широко применяемой бедуинскими менестрелями и арабскими поп-певцами.
Трубадуры называли свое искусство эффектной фразой — gaya sciencia, что можно перевести как «счастливая, или радостная, наука» или даже «экстатическое знание». В своей книге «Тайна соборов» Фулканелли сообщает, что их искусство было основано на особом «зеленом», или «птичьем», языке, представлявшем собой сложную систему намеков и иносказаний. Действительно, трубадуры относились к своему искусству чрезвычайно серьезно, и овладение им предполагало длительный период ученичества. Одна из самых знаменитых «академий» трубадуров находилась в Шато-Пьювер, или «Замке буйной зелени», где собирался так называемый «двор чудес», своего рода собор трубадуров, на котором происходили турниры певцов любви. Между тем Шато-Пьювер находился в самом сердце катарских земель, и с башни замка хорошо виден легендарный Монсепор, ставший в 1244 г. последним оплотом катаров. Шато-Пьювер, сеньор которого, Бернард де Конгост, был фанатичным катаром, представлял собой зримое, материальное связующее звено между трубадурами и катарами. И когда Шато-Пьювер в 1210 г. был захвачен и разрушен войском Симона де Монфора, Бернард успел бежать и укрылся в святилище Монсепор.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: