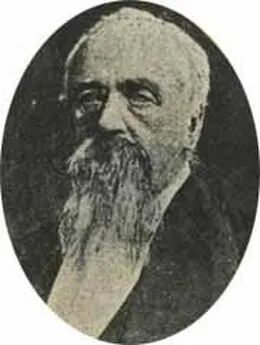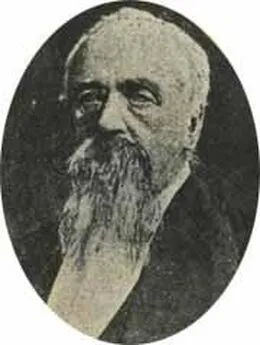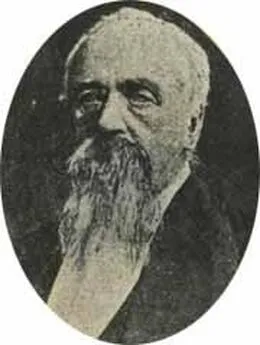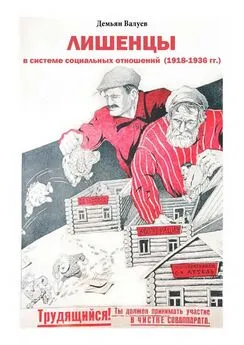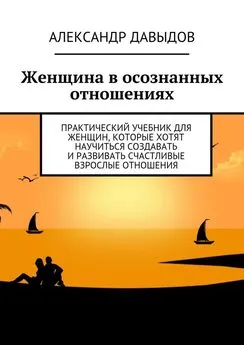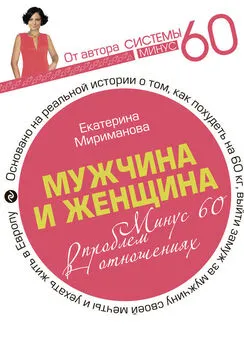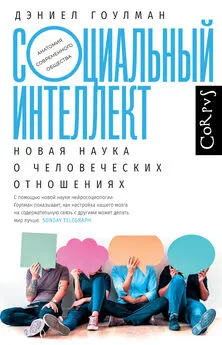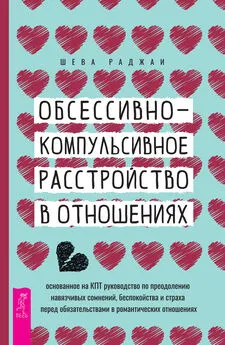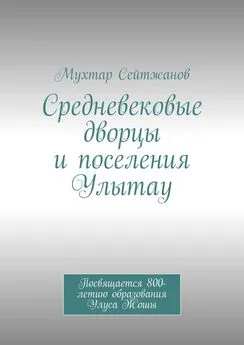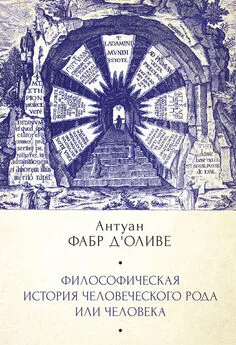Иосиф Бентковский - Женщина-калмычка Большедербетского улуса в физиологическом, религиозном и социальном отношениях
- Название:Женщина-калмычка Большедербетского улуса в физиологическом, религиозном и социальном отношениях
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Иосиф Бентковский - Женщина-калмычка Большедербетского улуса в физиологическом, религиозном и социальном отношениях краткое содержание
Иосиф Викентьевич Бентковский (польск. Józef Bętkowski; 19 марта 1812 — 15 (27) августа1890) — российский статистик польского происхождения.
Родился в семье знатных, но небогатых дворян Брескульского уезда Варшавского герцогства Викентия Бентковского и Жозефины Бентковской, урожденной Рудницкой. «Среднее образование я получил сначала в Влоулавске (Вроцлаве), а потом в Плоуке (Плоцке), но высшего не дала мне даже начать революция 1830 года и бросила на Кавказ».
После польского восстания 1830 года оказался на Кавказе.
«Русский язык я изучил на марше с таким успехом, что по прибытии в Ставрополь 4 февраля 1834 года меня, после отличной рекомендации партионного офицера, которому я в походе помогал в переписке, оставили в штабе Кавказской линии и Черномории и Астрахани для распределения и рассылки множества документов на польском и литовском языках (метрик) в разные части войск, где служили поляки».
На Кавказе принял православие и вступил в казачье линейное войско. Дослужился до звания офицера, казачьего сотника, начальника Михайловской станицы, заседателя полкового правления 4-й бригады Кавказского линейного войска.
Выйдя в отставку и поселившись в селе Безопасном, посвятил себя сельскому хозяйству и торговле и смог вплотную заняться историко-литературными трудами. Стал действительным членом Ставропольского статистического комитета. Будучи с 1871 года секретарём комитета, он переехал в Ставрополь и всецело занялся учёной деятельностью.
Скончался 15 августа 1890 года.
В трехтомной антологии публикуются произведения писателей, публицистов, деятелей культуры: А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, А.И. Одоевского, А.А. Бестужева-Марлинского, В.И. Соколовского, И.В. Бентковского, Я.В. Абрамова, СВ. Фарфоровского, Н.И. Воронова, К.Л. Хетагурова, Г.Н. Прозрителева, Г.А. Лопатина, — в разное время живших на Северном Кавказе, в Ставрополе, подвергшихся ссылке на Кавказ или гонениям со стороны властей, а также исследования Н.А. Кот-ляревского, Л.П. Семенова, И.П. Лейберова, Н.В. Маркелова и др. о них и об их творчестве. Произведения «опальных» связаны с нашим краем, Северным Кавказом. Русские писатели проложили пути к взаимопониманию народов России, их произведения способствуют строительству мира в многонациональном регионе
Женщина-калмычка Большедербетского улуса в физиологическом, религиозном и социальном отношениях - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Другой обычай состоит в том, что когда невеста приближается к хотону жениха, то перед ней развертывается большая завеса из красной или синей материи, прибитая к двум древкам таким манером, как прибиваются знамена. Два завесоносца едут впереди и держат завесу перед самыми глазами невесты, символизируя этим неведомую судьбу, ожидающую ее в доме мужа и в новой семье…
Брак у калмыков состоит из двух действий: в первом принимает участие религия; во втором абсолютно распоряжается обычай. Оба, однако ж, действия до того слиты, что ни одно из них не имеет определенных форм. Как на сговоре, так и при совершении брака, ничто без зурхачи-гелюнга не делается. Он управляет всем, даже поездом жениха и невесты, указывая в пути, где и когда остановиться кормить лошадей и где ночевать, так как только он один знает счастливое место и время. Поэтому и при браке он может или обойти что-нибудь в религиозно-обрядном действии, или же прибавить, и все это будто бы на основании всезнающей книги «зурхананом». Поэтому он указывает: где поставить кибитку для брачующихся, где разослать «ширдык» — словом, каждый шаг «зурхачи», каждое действие его на чем-нибудь да основано, и вероятнее всего, на своекорыстном расчете… Чем богаче свадьба, тем более суетится гелюнг, но, во всяком случае, две вещи составляют необходимую принадлежность бракосочетания: это «ширдык» и «шага-чимген».
«Ширдык» небольшой (3 аршина длины и 1 1/2 аршина ширины), коврик, непременно из белого войлока, в два листа простеганный. На ширдыке во время брака сидят жених с невестою. Белый цвет ширдыка означает невинность брачующихся; а два простеганные войлока знаменуют два существа, соединенные судьбою для одной цели.
«Шага-чимген» — задняя баранья лопатка или берцовая кость. На ней должно быть оставлено немного вареного мяса. Берцовая кость есть символ физической крепости, необходимой для размножения человеческого рода, так как активные органы расположены между берцовых костей. Обе эти вещи новобрачные сохраняют всю жизни как святыню.
Обряд венчания совершается на дворе. На разосланном по земле ковре или большой полсти расстилают «ширдык», на который садятся рядом жених с невестою. Гелюнг, прочитав краткую молитву, дает им в руки «шага чимген», который они держат за концы, жених правою, а невеста левою рукою. После того, за троекратным поклонением, жених и невеста должны повторить три раза за гелюнгом следующие слова: «Поклоняюсь Богу, небу, солнцу и луне». Формулу эту (для знатных) изменяют и так: «Первым поклоном поклоняюсь Господу Богу моему, вторым поклоном поклоняюсь солнцу и луне — отцу и матери моей, третьим поклоном клянусь любить друг друга, почитать, уважать и разделять все горести и радости жизни». По произнесении этой формулы, которая еще может быть изменена, смотря по красноречию гелюнга, он прикасается бурханом или священною книгою «ганьжур» чела брачующихся. Этим и оканчивается первый акт венчания. Затем брачующиеся встают (невеста все еще с накинутым на глаза платком — он заменяет нашу фату и выражает неведение ожидающей ее судьбы), не выпуская из рук кости, которую посредине берет гелюнг и ведет их в новую кибитку, для них же поставленную. Кибитка эта предварительно освящена чрез гелюнга молебствием о подании доброй жизни и долгоденствия вступающим в брак и бросанием вверх пшеницы в ознаменование прошения о приумножении их семейства и скотоводства.
Остановившись посредине кибитки, гелюнг берет из рук жениха и невесты «шага чимген» и кладет на столик перед «большим бараном», ставит туда бурхана или ганьжур, закуривает благовонные свечки и молится. Между тем родные матери венчающихся, если есть, а если нет, то ближайшие родственницы, усаживают жениха в головах, а невесту — в ногах кровати, остальные же гости входят и садятся кругом кибитки, соблюдая порядок старшинства. Когда все усядутся чинно, жених срывает платок с головы невесты, которая только теперь увидит окончание свадьбы. В это время, по данному гелюнгом знаку, жених и невеста встают и кладут перед «большим бараном» по три земных поклона. Затем гелюнг берет «шага чимген», снимает с него платок, которым сначала и до сего времени был обвернут, срезывает до трех раз небольшие кусочки баранины и кладет пред бурханом на маленькую серебряную чашечку вроде солонки «такилан цекце» (это значит «жертвоприношение») и потом дает по такому ж кусочку в сообщение жертвы жениху, невесте их родственникам и всем присутствующим, а «шага чимген» кладет на прежнее место. Принятые кусочки съедаются, и каждый кладет 3 земные поклона в благодарность Богу за совершение дела, которое заканчивается очищением, т. е. политием на руки понемногу освященной воды «аршан». Прихлебнув с руки этой воды, калмыки помазывают этою же водою глаза и темя, и обряд венчания кончен.
Теперь вступает в свои права обычай. Он начинается, как это и везде водится, с поздравления молодых. Чарка арзы обходит по старшинству из рук в руки всю компанию, но никто не имеет права выпить, не сказав приличной случаю речи, на которые, заметим, калмыки очень находчивы. Иной с четверть часа будет говорить речь с большим смыслом, а иногда и с чувством. Женщины тоже не упускают удобного случая выказать свой ум, находчивость и чувства.
Окончив поздравления, молодые, предшествуемые своими матерями, а за ними и все выходят из кибитки и отправляются в родительскую кибитку. Молодые садятся с наружной стороны против дверей, а двое молодых людей — внутри по обоим бокам. Первым подают чашку сырого бараньего сала, нарезанного кусками, а последним велят держать за концы вытянутую шкуру только что зарезанного барана. В одно время молодая берет куски сала и бросает внутрь кибитки, стараясь попасть в огонь, под таганом горящий, а молодежь тянет кожу из всей силы, каждый к себе.
Если молодая попадет хоть раз (а чем больше, тем лучше) под таган куском сала, а молодым людям удастся растянуть овчину до того, что порвется, то это считается счастливым предзнаменованием. Значит, огонь будет всегда ярко гореть под таганом, что возможно только при довольствии, а скот молодых увеличивается без числа, как увеличилась растянутая овчина.
Затем, при шумных одобрениях и душевных пожеланиях молодым счастливой жизни, все входят в кибитку, садятся по своим местам, и начинается угощение чаем, арзою, водкою и разными закусками. Спустя час или два среди усиливавшегося говора и шума две ближайшие родственницы, если есть — тетки, незаметно для пирующих уводят молодую в ее кибитку и там втихомолку, без всяких уже церемоний расплетают ее девичью косу на две, надевают на них «шыбирлик» и, пожелав доброй ночи, уходят. Молодая долго остается одна; молодой должен к ней войти, никем не замечаемый, а такой случай, быть может, нескоро ему представится. Чуть свет, молодой, опять никем не замеченный, выходит из кибитки, седлает коня и отправляется в табун, если же у него нет ни коня, ни табуна, то пешком идет скрываться от людей где-нибудь в степи и только ночью может возвратиться к ожидающей его жене… Так продолжается до тех пор, пока не разъедутся гости. Молодой все это время никого не видит, следовательно, никто не беспокоит неуместными шутками и намеками; так как никто не имеет права войти в ее кибитку, ни она из нее выйти.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: