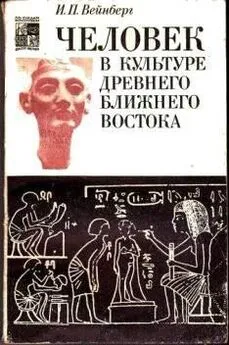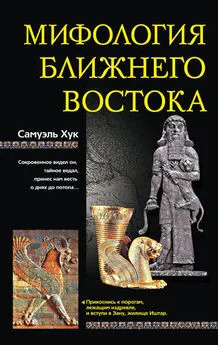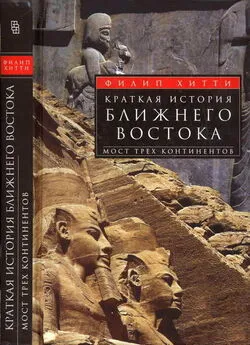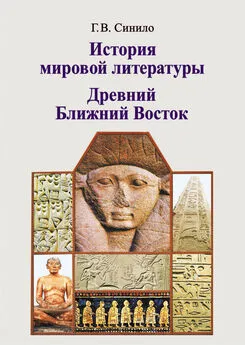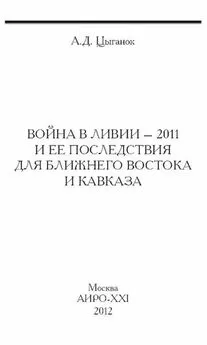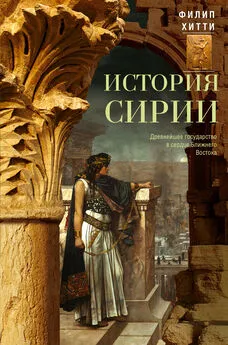Иоэль Вейнберг - Человек в культуре древнего Ближнего Востока
- Название:Человек в культуре древнего Ближнего Востока
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Наука, Главная редакция восточной литературы
- Год:1986
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Иоэль Вейнберг - Человек в культуре древнего Ближнего Востока краткое содержание
В результате скрупулезного анализа памятников древнейших культур Древнего Египта, Шумера, Вавилонии и др. автор воссоздает внутренний мир, мировоззрение древнего человека, важнейшие аспекты личности.
Человек в культуре древнего Ближнего Востока - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Итак, древневосточному человеку знакомо обобщенное, абстрактное понятие «человек вообще, человек как таковой» и даже такая абстракция, как «человечество», что можно считать еще одним доказательством растущей антропоцентричности древневосточной модели мира. Однако не следует переоценивать степень подобного абстрагирования — в словах, обозначающих человека вообще, «человек» все-таки не до конца свободен от индивидуальной конкретности, он всегда предстает связанным с различными людскими общностями и представляет собой единство или, точнее, двуединство физического и психического, тела и души.
Обосновывая и развивая свою концепцию типологического различия древневосточной словесности и греческой литературы, древневосточной и античной культуры, С. С. Аверинцев пишет, что «вообще выявленное в Библии восприятие человека ничуть не менее телесно, чем античное, но только для него тело — не осанка, а боль, не жест, а трепет, не объемная пластика мускулов, а уязвляемые „потаенности недр“; это тело не созерцаемо извне, но восчувствованно извнутри, и его образ слагается не из впечатлений глаза, а из вибраций человеческого „нутра“» [4, с. 62]. Как считает автор, именно поэтому столь редки описания человеческого тела, а имеющиеся «дают не замкнутую пластику, а разомкнутую динамику, не форму, а порыв, не расчлененность, а слиянность, не изображение, а выражение, не четкую картину, а проникновенную инкогнацию» [3, с. 228]. Можно привести в подтверждение этого суждения немало примеров: шедевры Амарнского искусства — нервно-напряженные, болезненно-некрасивые изображения Эхнатона, исполненные женственности, тревожно-одухотворенные портреты Нефертити и др.; горестные строки средневавилонской поэмы «О Невинном страдальце»:
Во мраке лик мой, рыдают очи,
Затылок разбили, скрутили шею,
Ребра пронзили, грудь зажали,
Поразили тело, сотрясли мои руки…
Однако непредвзятый просмотр древневосточных текстов — изобразительных и словесных — доказывает, что подобное восприятие человеческого тела для культуры древнего Ближнего Востока явление скорее всего маргинальное, а не сущностное, эпизодическое, а не постоянное. В древневосточной культуре как раз преобладают и «осанка», и «жест», и «пластика мускулов», столь отчетливо проявляющиеся в древнеегипетском изобразительном искусстве, причем далеко не только в канонических изображениях фараонов, которым свойственны величавость осанки, монументальная пластика. Особенно показательна ликующая «телесность» таких шедевров неканонического искусства, как статуя писца, статуя «сельского старосты» Каапера времени Древнего царства, очаровательные изображения музицирующих и танцующих девушек на фреске времени Нового царства. (Эта фреска привела в такой восторг искусствоведа, что он провозгласил ее «картиной истинно прекрасной жизни» [177, с. 232].) Приведем отрывок из «Песни песней»:
Милый бел и румян, отличен из тысяч:
Лицо его — чистое золото,
кудри его — пальмовые гроздья, черные, как ворон,
Очи его, как голуби
на водных потоках…
Разве эти строки и сотни им подобных в древнеегипетской и шумерской, вавилонской и хеттской, ханаанейской и иной древневосточной словесности не обладают «телесностью» восприятия, которую считают отсутствующей в сознании человека древнего Ближнего Востока?
Человеческое тело — сложный организм, и культуры, модели мира различаются также и тем, какие части этого организма привлекают их особое внимание. В этой связи заслуживает внимания мысль М. Г. Ярошевского [125, с. 53], указавшего, что «издавна как на Востоке, так и в Греции конкурировали между собой две теории — „сердцецентрическая“ и „мозгоцентрическая“», лишь с тем уточнением, что на древнем Ближнем Востоке главная роль, которая отводилась сердцу в человеке, постепенно переходит к голове, ее органам.
Справедливость высказанного суждения подтверждается всей совокупностью древневосточных текстов, свидетельствующих о том, что сердцу и крови придается особое значение как средоточию всей психической сущности и деятельности человека. «Я, человек, вышел на улицу с удрученным сердцем», — сказано о Невинном страдальце в шумерской поэме, а шумерская поговорка гласит, что в день свадьбы:
Радость в сердце у невесты,
Горесть в сердце у жениха
При приближении возлюбленной, говорится в древнеегипетском стихотворении «У реки»:
Сердце взыграло,
Как бы имея вечность в запасе
А преисполненная раздумьями о жизни и смерти «Песнь из дома усопшего даря Антефа, начертанная перед певцом с арфой» поучает:
А потому утешь свое сердце,
Пусть твое сердце забудет
О приготовленьях к твоему просветленью.
Следуй желаньям сердца,
Пока ты существуешь
Однако параллельно подобному признанию сердца средоточием человеческой сущности в древневосточных текстах встречаются и представления о том, что именно голова, лицо выражают сущность человека, поскольку голова — обиталище его души, глаза — зеркало души, уста — выразители души и т. д. Такой подход можно видеть уже в скульптурах Древнего царства, например в известной статуе писца Каи. «Перед нами — лицо человека, привыкшего молча, беспрекословно исполнять волю господина. Плотно сжатые тонкие губы большого рта и внимательный взгляд зорких глаз придают этому лицу… смешанное выражение сдержанности, готовности повиноваться с хитростью ловкого и умного царского приближенного» [81, с. 43]. Именно лицо выражает суть человека, что справедливо также для шумерской скульптуры III тысячелетия до н. э., где безразличие к разработке человеческого тела сочетается с тщательным моделированием большой круглой головы с широко раскрытыми глазами — вместилищем мудрости, большим носом, ощущающим «дыхание жизни», и большим ртом, произносящим «слова души». Показательно также, что в богатой ветхозаветной терминологии тела (около 320 слов!) особо высокой частотностью выделяются термины, обозначающие голову и ее части: лицо (пане, 2100 упоминаний), глаз (’ айын , 860 упоминаний), голова (ро’ш, 600 упоминаний), голос (кол, 560 упоминаний) и др., причем со временем обнаруживается тенденция к возрастанию удельного веса именно этих терминов [221, с. 89].
Признание сердца средоточием человека, а тем более отведение подобной же роли голове, лицу отчетливо показывает характерное для древневосточной модели мира восприятие человека как двуединства физического и психического. Тело и сердце, голова и лицо, глаза и рот, уши и пр. признаются не только и не столько телесными органами, сколько вместилищами души, т. е. человеческой психики, к рассмотрению понимания которой мы теперь обращаемся.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: