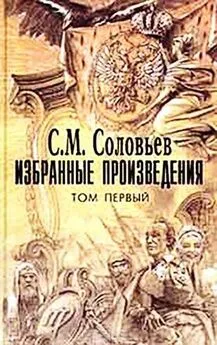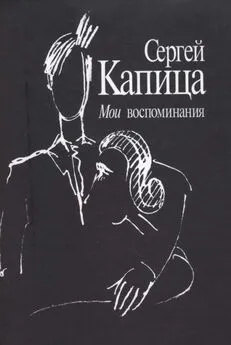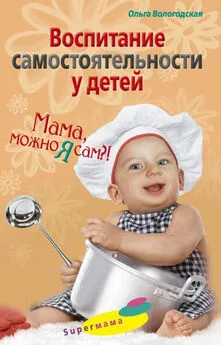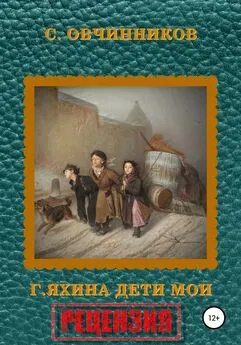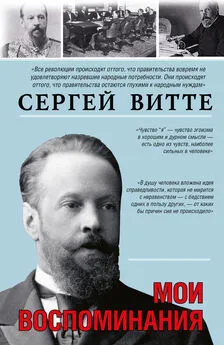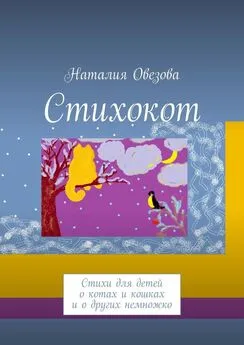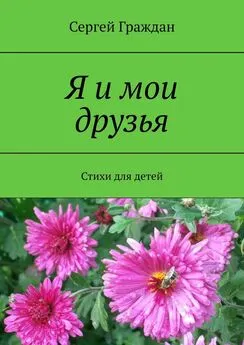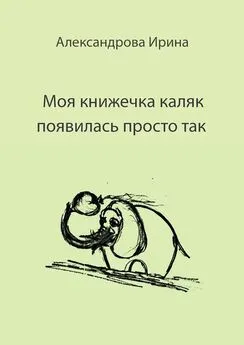Сергей Соловьев - Мои записки для детей моих, а если можно, и для других
- Название:Мои записки для детей моих, а если можно, и для других
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Сергей Соловьев - Мои записки для детей моих, а если можно, и для других краткое содержание
В предлагаемое вниманию читателей трехтомное собрание сочинений великого русского историка С.М.Соловьева (1820–1879) вошли либо не переиздававшиеся после их первого выхода в свет произведения автора, либо те его труды, число переизданий которых за последние сто лет таково, что они все равно остаются неизвестны массовой аудитории.
Подбирая материалы к трехтомнику, составители, прежде всего, стремились как можно более полно (разумеется, с учетом компактности данного издания) представить взгляды С.М.Соловьева на различные проблемы истории России, начиная с эпохи Киевской Руси и заканчивая царствованием императора Александра I. При этом, по возможности, соблюдался хронологический принцип распределения подобранного материала первого, второго и третьего томов. Исследовательским работам С.М.Соловьева предпосланы его автобиографические записки, позволяющие читателю взглянуть на личность великого историка его собственными глазами. Издание снабжено комментариями и открывается вступительной статьей, содержащей краткую характеристику научного наследия С.М.Соловьева.
Мои записки для детей моих, а если можно, и для других - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Преподаватель христианский,
Он верой тверд, душою чист;
Не злой философ он германский,
Не беззаконный коммунист;
И скромно он по убежденью
Себя считает выше всех,
И тягостен его смиренью
Один лишь ближнeго успех.
Основа недостатков Шевырева заключалась в необыкновенной слабости природы, природы женщины, ребенка, в необыкновенной способности опьяняться всем, в отсутствии всякой самостоятельности. Нельзя сказать, чтобы он вначале не обнаружил и таланта; но этот талант дан был ему в чрезвычайно малом количестве, как-то очень некрепко в нем держался, и он его сейчас израсходовал, запах исчез, оставив какой-то приторный выцвет. Шевырев как был слаб пред всяким сильным влиянием нравственно, так был физически слаб пред вином, и как немного охмелеет, то сейчас растает и начнет говорить о любви, о согласии, братстве и о всякoго рода сладостях; сначала, в молодости, и это у него выходило иногда хорошо, так что однажды Пушкин, слушая пьянoго оратора, проповедующего довольно складно о любви, закричал: «Ах, Шевырев! зачем ты не всегда пьян!»
От Шевырева приятно перейти к профессору, который произвел на меня самое сильное впечатление на первом курсе, именно к Крюкову. Крюков когда я вступил в университет, читал латинский язык на трех старших курсах и древнюю историю на первом. У Крюкова, как у всех самых даровитых профессоров русских, но занимающихся науками, разработанными на Западе, не было самостоятельности; он пользовался результатами, добытыми германскими учеными, своими учителями, читал преимущественно под влиянием Гегеля; но у Крюкова был блестящий талант в изложении, блестящий и вместе твердый, не допускавший фразы, представлявший этим противоположность Шевыревскому таланту. Крюков, можно сказать, бросился на нас, гимназистов, с огромной массой новых идей, с совершенно новой для нас наукой, изложил ее блестящим образом, и, разумеется, ошеломил нас, взбудоражил наши головы, вспахал, взборонил нас, так сказать, и затем посеял хорошими семенами, за что и вечная ему благодарность. Второй курс мы слушали его уже, как профессора латинской словесности, и здесь он был превосходен, обладая в совершенстве латинской речью и силою своего таланта возбуждая в нас интерес к экзегезису, столь важному для изучения отечественных памятников; привлекательности речи Крюкова, как латинской, так и русской, помогал очень много необыкновенно приятный, звучный орган, на котором он очень искусно умел играть, как на инструменте; до сих пор (29-го мая 1855 года) еще не встречал человека, который бы умел так играть на своем голосе, приводить его в такую гармонию с мыслью, с рассказом своим; некоторые лекции — например, о Таците — он потом напечатал; но в книге это было не то, потому что обаяние уже исчезло.
Когда мы перешли на второй курс, то приехал из-за границы профессор Грановский, начавший читать среднюю и новую историю. Грановский, как и Крюков, не был самостоятелен, явился поклонником также Гегеля, но был художник первоклассный в историческом изложении. Между талантом Крюкова и талантом Грановского была такая же большая разница, как и между их наружностью: Крюков имел чисто великороссийскую физиономию, круглое, полное лицо, белый цвет кожи, светлорусые волосы, светлокарие глаза; талант его более поражал с внешней стороны, поражал музыкальностью голоса, изящной обработкой речи, к нему, как нельзя более, шло прилагательное LAelegantissimus, как мы, студенты, его величали; но при этой элегантности, щегольстве, в нем самом, в его речи, в чтениях было что-то холодное; его речь производила впечатление, какое производит художественное изваяние. Грановский имел малороссийскую южную физиономию; необыкновенная красота его производила сильное впечатление не на одних женщин, но и на мужчин. Грановский своею наружностью всего лучше доказывает, что красота есть завидный дар, очень много помогающий человеку в жизни. Он имел смуглую кожу, длинные черные волосы, черные огненные, глубоко смотрящие глаза. Он не мог, подобно Крюкову, похвастать внешней изящностью своей речи: он говорил очень тихо, требовал напряженнoго внимания, заикался, глотал слова, но внешние недостатки исчезали пред внутренними достоинствами речи, перед вунутренней силой и теплотой, которые давали жизнь историческим лицам и событиям и приковывали внимание слушателей к этим живым, превосходно очерченным лицам и событиям. Если изложение Крюкова производило впечатление, которое производят изящные изваяния, то изложение Грановскoго можно сравнить с изящной картиной, которая дышит теплотой, где все фигуры ярко расцвечены, говорят, действуют пред вами. И в общественной жизни между этими двумя людьми замечалось то же различие: оба были благородные люди, превосходные товарищи; но Крюков мог внушать только большое уважение к себе, не внушая сильной сердечной привязанности, ибо в нем было что-то холодное, сдерживающее; в Грановском же была неотразимая притягательная сила, которая собирала около него многочисленную семью молодых и немолодых людей, но, что всего важнее, людей порядочных, ибо с уверенностью можно было сказать, что тот, кто был врагом Грановскому, любил отзываться о нем дурно, был человек дурной. Я сказал: кто любил отзываться о нем дурно; ибо и люди самые привязанные к нему должны были иногда с горем порицать его в глаза и за глаза: лень заставляла его закапывать свой блестящий талант; с необыкновенной легкостью проглатывая чужое и претворяя это чужое в свою собственность, Грановский с величайшим трудом мог заставить себя взять перо в руку; он оправдывал себя перед собою и перед другими тем, что нельзя было ничего печатать, благодаря русской цензуре, особенно с 1848–1855 года, но это оправдание не удовлетворяло ни других, ни его самого: печатать было можно и в это страшное время, еще легче было печатать прежде и после него. Грановский женился очень рано на превосходной женщине, дочери доктора Мюльгаузена, сестре профессора, нашего товарища, но детей не имел. Это обстоятельство, разумеется, много способствовало его лени, беспечности; потом я уже сказал, что он был постоянно окружен толпою людей, с которыми весело было проводить дни, ночи, от остроумной, веселой беседы с которыми трудно было оторваться для кабинетнoго труда…
VIII
После Грановскoго и Крюкова самым замечательным профессором нашего факультета был Александр Иванович Чивилев, преподававший политическую экономию и статистику. Это был gentleman в наружности и манерах, честный, точный в исполнении своих обязанностей, умный и часто зло-остроумный человек, и если не холодный, то, по крайней мере, холодноватый. Политическая экономия меня не так занимала; эта наука быля для меня слишком жидка, хотя изложение Чивилева, в научном отношении, кажется, было безукоризненно; гораздо больше удовольствия и пользы доставили мне его лекции о статистике, особенно та часть их, где говорилось о природе стран, о еe значении в жизни народов. Греческий язык на первом и втором курсах преподавал В. И. Оболенский, с которым я уже был знаком по гимназии, где он с начала моего поступления преподавал русский язык, а потом латинский. Оболенский был человек знающий, охотник читать, заниматься, но бездарный и полусумасшедший. В гимназии он так учил русскому языку: придет в класс и вызовет какого-нибудь ученика говорить урок от доски до доски по книге, потом вызовет кого-нибудь говорить стихи, и в этом проходит весь класс. В университете он мог бы быть полезным на низших курсах, занимаясь переводами авторов, но он вредил делу тем, что не мог внушить к себе никакого уважения в слушателях, которые смеялись над ним, над его странными речами, в которых, начавши за здравие, он сводил за упокой, ибо мысли, иногда здравыe, никогда не клеились в его голове одна с другой; потом он вредил преподаванию крайней слабостью, неуменьем требовать от студентов приготовления к переводу. Строганов видел его неспособность и насилу додержал его до срока пенсии, чтоб не лишить бедного старика куска хлеба. На высших курсах преподавал греческий язык А. И. Меншиков, человек бездарный, невыносимый на лекциях и также с головою не очень стройно организованною. Строганов хлопатал, чтобы его выжить из университета, но никак не мог. Еще до выхода Оболенского был приглашен для греческой кафедры немец Гофман. Это был человек не без дарования, могший с пользою преподавать греческий язык, особенно если сравнивать его с Оболенским и Меншиковым, но немец не понимал своего положения в русском университете. И поступавшие в университет ученики гимназии не были достаточно приготовлены в греческом языке, тем менее ученики, поступавшие из других приготовительных заведений и из родительских домов; при приемных экзаменах утвердилось вредное правило, что нельзя строго требовать греческoго языка, ибо это предмет трудный, отвращающий многих от поступления на историко-филологический факультет. Видя неприготовленность студентов, Гофман подумал, что им нельзя преподавать по-университетски, а надо по-гимназически, и начал душить нас на грамматике, на ее тонкостях; но что русскому здорово, то немцу смерть и наоборот. Русский студент 18-ти, 20-ти лет и больше и не имеющий в виду быть греческим учителем, занимающийся другими предметами, хочет приобресть возможность читать, как можно легче, греческих авторов, для чего ему нужно постоянное упражнение, — и вместо того, пробывши несколько лет в университете, посещая почти каждый день греческие лекции, он видит, что не может прочесть ни одной странички Геродота без лексикона, потому что лекции проводятся в толкованиях о различных оттенках частицы.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: