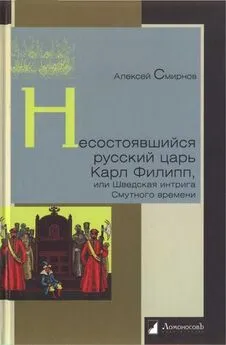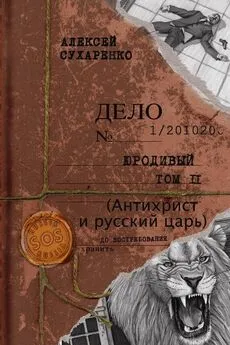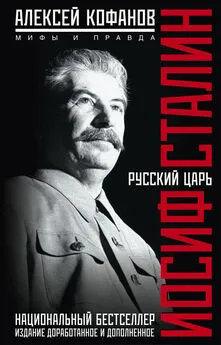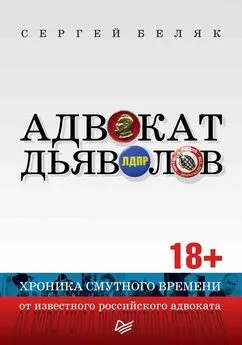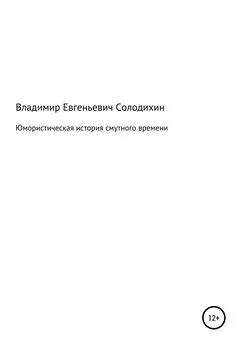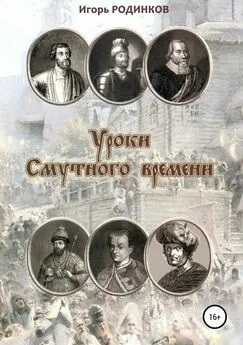Алексей Смирнов - Несостоявшийся русский царь Карл Филипп, или Шведская интрига Смутного времени
- Название:Несостоявшийся русский царь Карл Филипп, или Шведская интрига Смутного времени
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Ломоносовъ
- Год:2013
- Город:Москва
- ISBN:978-5-91678-153-3
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Алексей Смирнов - Несостоявшийся русский царь Карл Филипп, или Шведская интрига Смутного времени краткое содержание
Все беды, казалось, обрушились на Русь в Смутное время. Ослабление царской власти, трехлетний неурожай и великий голод, обнищание народа, разруха везде и во всем, интриги бояр, сменявшие один другого самозванцы, поляки и шведы, алчущие решить в свою пользу многовековые споры и под шумок прихватить то, что никогда предметом спора не было. До сих пор в событиях Смуты немало белых пятен. Одно из них связано с хитроумными комбинациями, которые должны были, по задумке их авторов, привести на русский престол шведского принца Карла Филиппа. Сторонником этой идеи — вот удивится читатель! — одно время был князь Пожарский, русский национальный герой. Книга историка и журналиста Алексея Смирнова являет собой редкое сочетание документального повествования с авантюрным сюжетом. Она написана с опорой не только на российские, но и на шведские источники, часть из которых никогда прежде не попадала в поле зрения российских историков.
возрастные ограничения: 6+
Несостоявшийся русский царь Карл Филипп, или Шведская интрига Смутного времени - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Армия Делагарди, отряд за отрядом, с перерывами в несколько дней, выходила из новгородского лагеря на московскую дорогу. Бурная поздняя весна привела к разливу рек, и апрельские снега превратились в потоки воды. Панцирная немецкая пехота по колено проваливалась в жидкую дорожную грязь, солдаты надрывались, вытаскивая из глубоких луж пушки. Мосты были разбиты, по обеим сторонам дороги стояли сожженные деревни. Жителей не было видно — они укрывались в лесах. Безлюдная местность сильно замедляла скорость движения войска, вынужденного взять на себя перевозку обозных припасов.
Районы, где еще сохранялись живые деревни, давно кончились, и наемники могли лишь с тоской вспоминать, как легко там решалась обозная проблема. «Ямом называют каждое село, в котором меняют подводы, — рассказывает о русской транспортной системе один из поляков, содержавшихся в русском плену в период Смутного времени, — порядок же такой, что за один час представят несколько сот подвод. Но это из-за необыкновенной жестокости, с которой относятся к мужикам, ибо когда замешкаются, то их карают: поставят рядом всех мужиков и, зайдя с конца, три человека палками по три раза ударяют каждый своего мужика и стегают их бичом по ногам. А обойдя ряд, снова то же повторяют, до тех пор, пока не будет подвода».
Впрочем, жестокость царских слуг не шла ни в какое сравнение с бесчинствами польских и русских отрядов, выступавших на стороне самозванца. По свидетельствам очевидцев, русские даже превосходили в жестокости поляков, вызывая среди них тревожные разговоры: «Если они так поступают со своими, то чего же приходится ждать в этой стране нам?» Повсюду рыскали конные банды грабителей, точно решивших показать своим видом, что силы ада поднялись из преисподней на землю. Головы убитых младенцев, насаженные на казачьи пики, покачивались в такт лошадиной рыси среди церковных хоругвей, взятых в ограбленных монастырях и превращенных в бандитские знамена. На конские крупы были накинуты драгоценные церковные ризы, в кожаных мешках бились иконы, приспособленные для игры в кости, за спинами всадников сидели полубезумные пьяные молодые женщины, жены и дочери дворян и крестьян, изнасилованные и вырванные из родных гнезд. Надоест живая игрушка хозяину, сунет он ей лениво нож под сердце и бросит в придорожную канаву — впереди будет еще много таких. Летописи рассказывают, что люди бежали в леса, «со зверьми в единых пещерах живуще», где за ними охотились с гончими. Матери, боясь крика младенцев, душили их в звериных норах — это было лучше, чем увидеть, как голову твоего дитяти разбивают о камень хохочущие охотники на людей.
Восставшие холопы, связав мужа, сына или брата, по десять человек насиловали на его глазах жену или родственницу, били как по тимпану по срамным местам — и убивали в этот момент. Девочек, обесчестив, отпускали просить милостыню, и они брели с распущенными волосами, оставляя за собой кровавый след, по улицам затихших в ужасе городов и деревень. Страсть к разрушению стала даже сильнее жажды наживы. Казаки не довольствовались одним грабежом, если они не успевали сжечь дома, то выламывали окна и двери, всячески старались сделать их непригодными для жилья, втаптывали копытами лошадей съестные припасы в навоз. Крестьян, которых, казалось бы, убивать было невыгодно, мучили до смерти просто для удовольствия. Известно, что один из казачьих предводителей, Наливайко, собственноручно зарезал 93 жертвы обоего пола. От злодейств не спасались даже те города и области, которые принесли присягу самозванцу. В тушинский лагерь потоком шли жалобы на «польских казаков», не знавших никаких ограничений в своих разбойничьих рейдах. Жители Переяславского уезда писали, например, самозванцу: «…от тех панов вконец погибли, паны крестьян бьют и грабят и жен емлют и детей на постель, достатки все пограбили, и платье и лошадей поймали, многих крестьян побили и пожгли, дома их разграбили, села и приселки и деревни стали пусты, люди со страху скитаются по лесу и болоту, рожь и ярь не жата и озимая не сеяна».
Польские фуражиры, посланные из тушинского лагеря для сбора продовольствия в подвластных «вору» землях, сговаривались между собой и, выдавая себя за слуг царя Василия Шуйского или за татар, приступали к безудержному грабежу «подданных» самозванца. Впрочем, к тому времени царевичей в России было хоть пруд пруди. Главари казачьих банд, разные Мартынки и Брошки, даже не подумав сменить свои простые имена на звучавшие более благородно, объявляли себя чудом спасшимися царскими детьми и творили суд и расправу, уже не прикрываясь именами Шуйского или Дмитрия. Мелкие самозванцы стали настоящим бичом для Лжедмитрия, сея сомнение в глазах подданных в его собственном царском происхождении. «Вор» устраивал показательные казни претендентов на престол в своем тушинском таборе, рассылал по подвластным ему областям грамоты с перечислением ложных царевичей — в одном из таких посланий насчитывается одиннадцать имен, — но все эти меры помогали мало. Казалось, сама русская земля, перестав родить рожь и пшеницу, перешла исключительно на производство царских отпрысков.
Отчаяние заставило многие области и города, отвернувшиеся в свое время от Василия Шуйского, вновь признать власть этого жалкого царя, выбранного одной лишь Москвой. Бунт вспыхнул в феврале 1609 года, достигнув своего пика к началу похода на Москву Делагарди и Скопина. От самозванца отложился весь северо-запад России. Вологда, Галич, Кострома, Романов, Ярославль, Суздаль, Молога, Рыбинск, Углич один за другим присягали царю Василию Шуйскому. Жестокость сторонников самозванца порождала такую же изощренную злобу восставших. Бывшего шведского подданного Иоахима Шмидта, ставшего одним из соратников Лжедмитрия, взбунтовавшиеся жители Ярославля раздели, посадили в большой пивоваренный котел и, налив туда до краев меда, сварили на медленном огне. Когда мясо этого несчастного стало отваливаться от костей, останки Шмидта выбросили за вал свиньям и собакам. Поляков и казаков, отбившихся от своих отрядов, раздевали и живых опускали под лед на Волге, приговаривая: «Вы вконец разорили нашу местность, сожрали всех коров и телят, отправляйтесь теперь к рыбам в Волгу и нажирайтесь там до смерти».
Надежнее всяких гонцов о восстании говорили двигавшемуся на Москву войску вскрывшиеся ото льда реки и ручьи. По ним плыли вздувшиеся почерневшие трупы — это были поляки и «воровские» казаки, застигнутые врасплох крестьянами.
Численность небольшой поначалу армии Скопина-Шуйского к середине мая достигла за счет вливавшихся в нее повстанцев десяти тысяч человек. Впрочем, европейские профессионалы Делагарди скептически поглядывали на этих крестьян, вооруженных чем попало. Они столь неуклюже обращались с оружием, что представляли бо́льшую угрозу для самих себя, чем для противника. «Крестьяне не понимают, на какое место полагается каждый вид ратного оружия, — писал об ополченцах Скопина-Шуйского новгородский дьяк Иван Тимофеев, наблюдавший за началом московского похода. — Когда же этим невежам самим где-нибудь придет время облачиться в такую же броню, они шлем налагают на колено, щит безобразно вешают на бедро вместе с другим вооружением, потому что это дело им не свойственно». Львиную часть царских войск составляли такие неумелые ополченцы. «Проехало 700 человек конных с луками к Шуйскому, — отмечал в своем дневнике один из пленных поляков, — это войско из таких рыцарей, что 40 гусаров могло бы их, без сомнения, разгромить».
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: