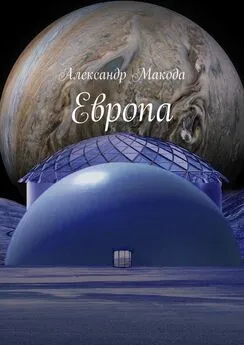Александр Эткинд - Внутренняя колонизация. Имперский опыт России
- Название:Внутренняя колонизация. Имперский опыт России
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Новое литературное обозрение
- Год:2014
- Город:Москва
- ISBN:978-5-4448-0090-4
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Александр Эткинд - Внутренняя колонизация. Имперский опыт России краткое содержание
Новая книга известного филолога и историка, профессора Кембриджского университета Александра Эткинда рассказывает о том, как Российская Империя овладевала чужими территориями и осваивала собственные земли, колонизуя многие народы, включая и самих русских. Эткинд подробно говорит о границах применения западных понятий колониализма и ориентализма к русской культуре, о формировании языка самоколонизации у российских историков, о крепостном праве и крестьянской общине как колониальных институтах, о попытках литературы по-своему разрешить проблемы внутренней колонизации, поставленные российской историей. Двигаясь от истории к литературе и обратно, Эткинд дает неожиданные интерпретации критических текстов об имперском опыте, авторами которых были Дефо и Толстой, Гоголь и Конрад, Кант и Бахтин.
Внутренняя колонизация. Имперский опыт России - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Во Франции и Германии создание нации из аграрной культуры тоже напоминало самоколонизацию: «народ», разделенный по сословиям, провинциям, диалектам и сектам, превращался в единую «нацию» (Weber 1976). В России этот процесс принял трагическую форму нескончаемых катастроф, которую будущий историк, с легкой руки Троцкого, назовет «перманентной революцией». Поощряя государственный национализм и этнографические исследования, в середине XIX века империя спонсировала открытие крестьянской общины, которую потом все более радикально интерпретировали славянофилы, народники и социалисты. С открытием неправославных сект к российской жизни стало возможно применять немецкие романтические клише, французские утопические идеи и американский опыт религиозного инакомыслия. Зажатая между империей, которую ей не удалось свергнуть, и общиной, которую ей не удалось сохранить, русская мысль преподнесла миру блестящий, трагичный и глубоко человечный урок. Благодаря русской литературе крепостные, разночинцы, сектанты и другие субалтерные группы говорили с современной им публикой и до сих пор говорят с нами. Созданная авторами из высших классов, чья судьба иногда отличалась, а иногда повторяла судьбу их непривилегированных героев, эта литература стала постколо-ниальной задолго до появления этого термина.
В 1988 году американский антрополог Джеймс Клиффорд (Clifford 1988: 93–94) пытался предсказать, чем будет заниматься «интеллектуальный историк в 2010 году, если его можно себе представить», и что он будет думать о недавних десятилетиях. Клиффорд полагал, что историк XXI века преодолеет языковую проблематику прошлого столетия и создаст новую парадигму «этнографической субъективности». Конечно, будущее превысило эти ожидания. После бурного увлечения этничностью и суверенитетом, имевшего политические причины в период бархатных и цветных революций, историки и антропологи Евразии стали работать над транскультурными понятиями и космополитическими метафорами (Hagen 2004; Kappeler 2009; Burbank, Cooper 2010). Как правильно предсказал Клиффорд, новая парадигма вышла за пределы языка, но она выходит и за пределы этнических различий и этнографического знания как такового. Мне представляется — и, возможно, это останется справедливым еще пару десятков лет, — что новая парадигма работает в более широких пределах человеческой субъективности. В имперском контексте слово subject имеет два смысла — «подданный по отношению к суверену» и «субъект по отношению к объекту». В английском языке это слово, с производными от него subjectivity и subjectness, сохраняет двусмысленность, которую не имеет в других европейских языках, включая русский. Субъективность развивается в связи с суверенитетом, но намного перекрывает его объем и содержание. Именно этот избыток субъективности по сравнению с субъектностью (подданством) делает имперские культуры столь богатыми и нестабильными [29] Выразить эту идею мне помогла важная дискуссия о «советской субъективности», см.: Halfin 2000; Hellbeck 2000; Krylova 2000; Etkind 2005; Chatterjee, Petrone 2008.
. Мишель Фуко (Foucault 1998: 44) говорил о прощании с идеей суверенитета как недостаточной для анализа власти. Концепция субъективности богаче и гибче, потому что мерцание субъекта между правовым и эпистемологическим значениями помогает разрешить проблему имперской власти. Зажатые между сувереном, который является сверх-субъекгом своих владений, и их объектами, которые годятся для использования и налогообложения (ресурсы, товары и так далее), субъекты-подданные развивают уникальные способы жизни, службы и любви. Сверху эта имперская субъектность варьирует от идентификации себя с сувереном до сопротивления и бунта. Внизу эта имперская субъективность сталкивается с разнообразием объектов, от животных до ландшафтов, которые она пытается завоевывать и исследовать, строить и разрушать, захватывать и обменивать, забывать и помнить. В горизонтальной плоскости имперская субъективация вовлекает других субъектов, единичных и тех, кого считают миллионами, с их душами, телами и сообществами.
Медведь сильно отличается от кита, но ученые знают, что глубоко под кожей их отличия не так уж велики. Колонизируя Россию и Индию, британцы и россияне порабощали, эксплуатировали, просвещали и освобождали населявших эти страны «полудьяволов, полудетей» (Киплинг). На эту невыполнимую задачу их толкало Бремя белого человека, или, применительно к элите Российской империи, Бремя бритого человека. Среди многих текстов русской литературы, открывающих уникальный доступ к пониманию этого бремени, — «Продукт природы» Николая Лескова. Автор вспоминает о том, как в молодости пытался спасти крестьян от телесного наказания, которое им назначил местный исправник за попытку побега. Но этот полицейский чиновник запер Лескова в своем доме, оставив его рыться в библиотеке, в которой с любовью собрал запрещенные книги, звавшие к справедливости и освобождению крестьян. За это время крестьян выпороли, а единственной удачей автора стало открытие того, что этот исправник на самом деле не полицейский чин, а самозванец, «фитюлька», приказный секретарь. Источником его права на суд был его имперский опыт: «Настоящее знание этого народа дает на него настоящие средства», — говорил он с гордостью. А был бы у него чин исправника, он бы «один целую Россию выпорол».
Литература
Аксаков, Иван 1994. Письма к родным, 1849–1856. М.: Наука.
Анисимов, Евгений 1999- Елизавета Петровна. М.: Молодая гвардия.
Анненков, Павел 1989. Литературные воспоминания. М.: Правда.
[Аноним] 1847. Барон Гакстгаузен и его путешествие по России // Финский вестник, 22/10: 1–16.
Аптекман, О.В. 1924. Общество «Земля и воля» семидесятых годов по личным воспоминаниям. Пг.: Колос.
Архив 1932. Архив «Земли и Воли» и «Народной Воли». М.: Общество политкаторжан.
Бахтин, Михаил 1975. Формы времени и хронотопа в романе. Очерки по исторической поэтике // Бахтин, Михаил. Вопросы литературы и эстетики. Исследования разных лет. М.: Художественная литература, 234–407.
Бахтин, Михаил 2000. Проблемы творчества Достоевского. М.: Русские словари.
Белинский, Виссарион 1954. Полное собрание сочинений. М.: АН СССР.
Бердяев, Николай 1916. Типы религиозной мысли в России // Русская мысль, 6.
Бердяев, Николай 1989. Духовное христианство и сектантство в России // Бердяев, Николай. Собрание сочинений. Т. 3. Париж: YMCA-Press.
Березин, Илья, 1858. Метрополия и колония // Отечественные записки, 118/5: 74–115.
Богучарский, В. 1912. Активное народничество семидесятых годов. М.: Сабашниковы.
Болотов, Андрей 1931. Жизнь и приключения Андрея Болотова, описанные самим им для своих потомков. Т. 1–3. М.: Academia.
Болотов, Андрей 1986. Жизнь и приключения Андрея Болотова, описанные самим им для своих потомков / Ред. А. Гулыга. М.: Современник Бонч-Бруевич, Владимир 1918. Духоборцы в канадских прериях. Пг.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:






![Александр Эткинд - Природа зла. Сырье и государство [litres]](/books/1074176/aleksandr-etkind-priroda-zla-syre-i-gosudarstvo.webp)