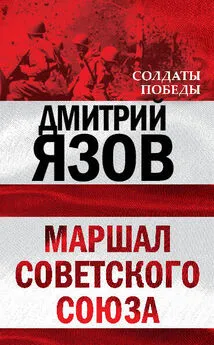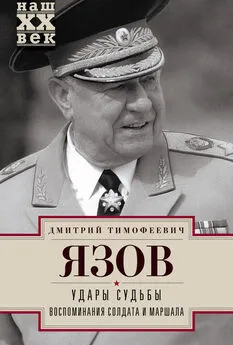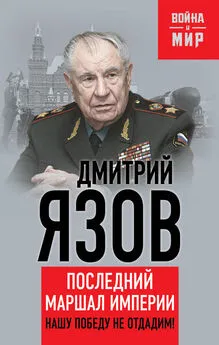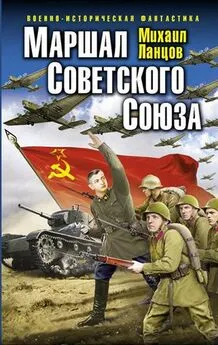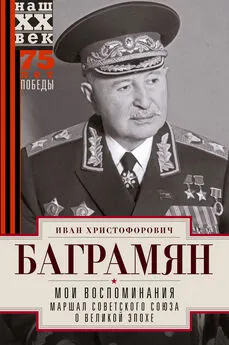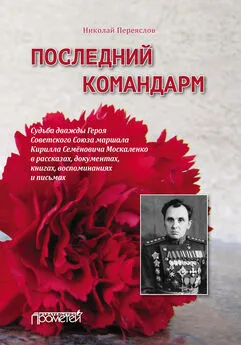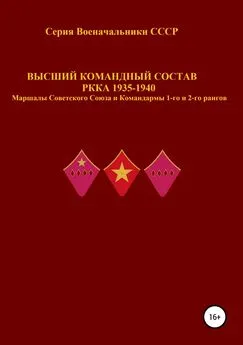Дмитрий Язов - Маршал Советского Союза
- Название:Маршал Советского Союза
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Алгоритм
- Год:2010
- Город:Москва
- ISBN:978-5-699-4234
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Дмитрий Язов - Маршал Советского Союза краткое содержание
Дмитрий Тимофеевич Язов – последний (по дате присвоения звания) Маршал Советского Союза. Его жизненный путь – это путь солдата, служащего своей Родине и верного присяге, которую, как известно, принимают только один раз. В Красную Армию Дмитрий Язов вступил добровольно в ноябре 1941 года, не окончив среднюю школу. Был ранен в боях, награжден орденом…
В 1987 году Д.Т. Язов был назначен на должность министра обороны СССР и до конца отстаивал интересы советской державы. 19 августа 1991-го года Д.Т. Язов вошел в состав ГКЧП, за что был арестован.
Как пишет в предисловии к книге Д.Т. Язова известный писатель Владимир Карпов, «в своем произведении Дмитрий Тимофеевич поступил как опытный литератор, он не пошел затоптанными мемуарными тропами. Главы о катастрофе, называемой «перестройкой», перемежаются с воспоминаниями о Великой Отечественной войне. А страницы, передающие высочайший накал роковых событий августа 1991 года, а затем описывающие пребывание автора в тюрьме, подкреплены фактурными пластами жизни и службы в мирное время».
Маршал Советского Союза - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
В тот памятный для меня день Сергей Тимофеевич сидел на лавке и кормил голубей. Иногда к нему подбегали соседские мальчишки, отламывая от щедрого батона Коненкова и себе краюшку. Ребятня играла в «казаков-разбойников». Почему-то все мальчуганы – и «казаки», и «разбойники» – называли друг друга Сашками. Я заметил, что это обстоятельство почему-то весьма радовало всемирную знаменитость. «У этих сорванцов счастливые матери, – заметил Сергей Тимофеевич, – это дети матерей-одиночек. Они совершили грех на благо прирастания «вихрастого богатства России». Взглянут в окошко, вот тебе и имя – Александр! Наш-то район весь в Александрах. И девчушки Александры».
Я конечно же не преминул воспользоваться шапошным знакомством со скульптором и пригласил Сергея Тимофеевича в Клуб Академии на выпуск «Устного журнала», куда захаживали на огонек Ю. Левитан, хирург С. Юдин, С. Михалков, И. Козловский, народный артист П. Массальский. Вскоре знаменитый автор «Егора-пасечника», «Старичка полевичка», бюста Эйнштейна, «Марфиньки», портрета Есенина пожаловал в гости к офицерам академии.
Чуть позже, в 60-е годы, женщина, соседка по купе, рассказала мне, как сам Коненков изваял памятник ее мужу, погибшему на войне. «Мы, жены железнодорожников, пришли в мастерскую скульптора: скоро, Сергей Тимофеевич, страна отпразднует 20-летие Победы над фашистами. Но мы не знаем даже, где похоронены наши мужья. Они железнодорожники, из депо, что у Белорусского вокзала.
И Сергей Тимофеевич откликнулся на нашу просьбу. Безвозмездно вместе с сыном Кириллом он соорудил монумент нашим мужьям. Какой благородный человек, сколько в нем было великодушия! У нас до сих пор не было дорогих могил».
Эту историю я вспоминаю еще и по той причине, что сегодня одиноких ветеранов войны и тыла частенько хоронят в одной братской могиле вместе с ворами и бомжами на скудные средства местной администрации российских городов по статье «ритуальные услуги». Хоронят в целлофановых мешках из накопителей морга. Часто даже не задумываясь о том, что умерший в свое время постоял за честь России на поле брани…
Ежегодно мы, офицеры академии, выезжали в летние лагеря в Наро-Фоминск, а на втором курсе – в Прикарпатский военный округ в Яворово, где проводились дивизионные учения с условным применением ядерного оружия. После проведенного учения на Тоцком полигоне Маршалом Советского Союза Г.К. Жуковым все тактические задачи разрабатывались непременно с применением ядерного оружия.
По результатам учения военные документалисты отсняли фильм, который мы неоднократно просматривали. Мощь оружия поражала воображение, а была-то испытана бомба всего-навсего около 20 килотонн.
Выпуск наших трех курсов «А», «Б» и исторического факультета – состоялся в ноябре 1956 года. Так как я закончил академию с золотой медалью, за мной было право самому выбрать, где продолжать службу. Я выбрал свою 63-ю гвардейскую дважды Краснознаменную Красносельскую дивизию, должность командира батальона.
В это время проходило сокращение Вооруженных Сил на миллион двести тысяч человек. Полные дивизии переводились на сокращенные штаты. Вскоре меня перевели в 64-ю гвардейскую Краснознаменную тоже Красносельскую дивизию в 197-й полк начальником полковой школы по подготовке сержантов – командиров отделений.
Жили мы на частной квартире в Парголово, на службу ездили на автобусах. Учить командиров и не жить в гарнизоне было противоестественно. Понимал это и командир полка Иван Сергеевич Гордиенко. Он изыскал возможность дать мне две комнаты в офицерском доме в Сертолово-2, где размещался полк. Школы в Сертолово-2 не было, ездили в Сертолово-1. Повел я Игоря в школу – не берут. По возрасту подходит, а парт нет. Пришлось самому смастерить. Так что Игорь учился за своей персональной партой.
В конце 1958 года меня назначили старшим офицером в Управление боевой подготовки в Ленинграде. Работа была творческая, часто приходилось выезжать в войска на учения. Квартиру в Ленинграде получил где-то через год.
Начальником Управления был генерал-лейтенант Г.Н. Филиппов, тот самый Филиппов, который, командуя мотострелковой бригадой, с включенными фарами на танках ворвался на охраняемый немцами мост в районе Калача, создав условия для переправы танкового корпуса и окружения немецко-фашистских войск в Сталинградской операции. За этот прорыв он получил звание Героя Советского Союза.
К сожалению, старые раны давали о себе знать, и вскоре на должность начальника Управления прибыл генерал-лейтенант Г.П. Романов. В годы Великой Отечественной войны он был членом Военного совета 23-й армии, оборонявшейся на Карельском перешейке. Генерал Романов и предложил на Военном совете мою кандидатуру на должность командира 197-го мотострелкового полка. Полк стоял в Саперном, в 110 километрах от Ленинграда, но по-прежнему являлся парадным полком.
Перед праздниками допросов стало меньше. 8 ноября, в мой день рождения, разрешили свидание с Эммой Евгеньевной и на один час с дочерью Еленой и зятем Александром.
Встреча в присутствии омоновца – это какое-то кощунство. Два часа пролетели мгновенно. Пока я шел в камеру с цветами, сочинил стихотворение:
Опять мы встретились в тюрьме,
Ты подарила вдохновенье,
Спасибо, Эммочка, тебе
Что скрасила мой день рожденья.
Надо было выживать после гнетущих душу бестактных допросов следователей, и я понемногу начал записывать все, что касалось моей командировки на Кубу.
– А почему вы, Дмитрий Тимофеевич, начали описывать свое житье-бытье с Кубы? Обычно начинают с детства, матери? – спросил меня один из сокамерников.
– О детстве и матери я напишу на свободе. Когда за мной не будут подглядывать через «глазок». Детство – это слишком личное, святое. Это колыбель, которую всю жизнь качает судьба. А начну я с Фиделя. Пусть эти капитаны-стукачи, подглядывающие за нами, уяснят: настоящие офицеры защищают честь Родины, а не торчат у «кормушек» и «глазков». Может, Фидель их чему-нибудь и научит. Все равно будут рыться в моих черновиках…
Прощай, Саперное!
В наш гарнизон Саперное охотники наведывались частенько, но известие, что к нам приезжает сам Василий Иванович Чуйков, требовало проверки. Главнокомандующий Сухопутными войсками любил охоту, но в наших краях никогда не рыбачил и глухарей не отстреливал.
Василия Ивановича в войсках и любили, и побаивались. Ценили за волевые качества, полководческое искусство, за стойкость и мужество. Маршал отличался крутым характером и умел спросить за упущения по службе. Вспоминаю, как одна женщина-врач выдала весьма лестную характеристику Чуйкову: «У вас, Василий Иванович, чистые помыслы, как снега на Эльбрусе. Но эти снега готовы обрушиться лавиной, завертеть в водовороте тех, кто показал себя нерадивым».
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: