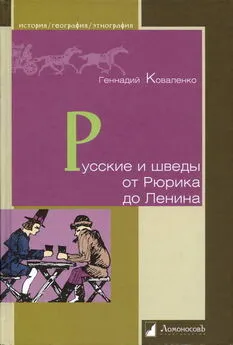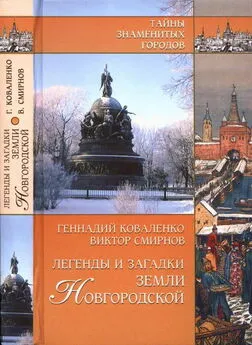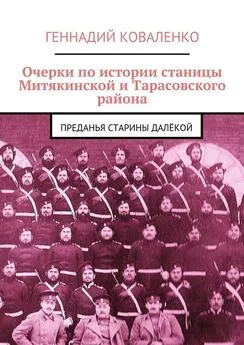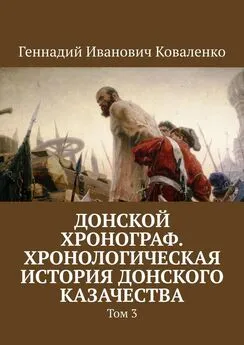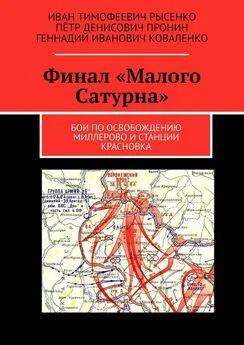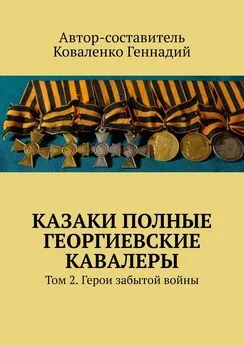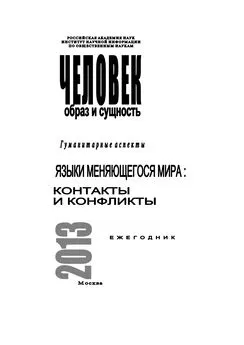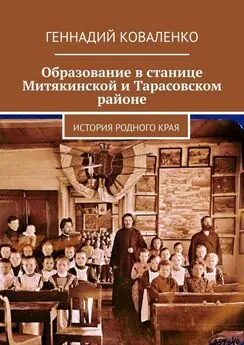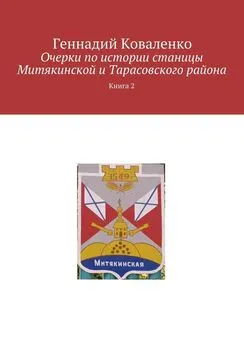Геннадий Коваленко - Русские и шведы от Рюрика до Ленина. Контакты и конфликты
- Название:Русские и шведы от Рюрика до Ленина. Контакты и конфликты
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Ломоносовъ
- Год:2010
- Город:М.
- ISBN:978-5-91678-004-8
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Геннадий Коваленко - Русские и шведы от Рюрика до Ленина. Контакты и конфликты краткое содержание
Книга популярных очерков ведущего научного сотрудника Санкт-Петербургского института истории Российской академии наук Геннадия Коваленко рассказывает о малоизвестных, неизвестных или забытых эпизодах из тысячелетней истории отношений между Россией и Швецией, в которых соперничество тесно переплелось с сотрудничеством, а контакты с конфликтами. Непредвзятый взгляд русского ученого, охватывающий все многообразие русско-шведских взаимосвязей в экономической, культурной, политической, а порой и военной сферах, демонстрирует, как много общего между Россией и Швецией.
Русские и шведы от Рюрика до Ленина. Контакты и конфликты - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Уже в начале нашего столетия слава «могилы Рюрика» закрепилась за так называемой Шум-горой, расположенной в Передольском Погосте — одном из важных административных, ремесленных и торговых центров Новгородской земли, изобилующей древними городищами, сопками и курганами.
Память о Рюрике была увековечена не только в памятнике «Тысячелетие России», но и в названиях нескольких кораблей русского флота. Его имя носили военный бриг, совершивший в 1815 — 1818 годах кругосветное плавание под командованием адмирала О.Е. Коцебу; крейсер, отличившийся в бою в Корейском проливе в августе 1904 г., а также броненосный крейсер, участвовавший в войне на Балтике и в Ледовом походе 1918 года.
Отношение к Рюрику в различные эпохи было различным. История обработки предания о Рюрике отражает политические настроения общества. На разных этапах его развития Рюрик был то скандинавским князем, приглашенным новгородцами для исполнения судебных и правоохранительных функций, то потомком легендарного Пруса, родственника императора Августа, то просто наемником — солдатом удачи IX века, совершившим военный переворот, то предводителем профессиональной разбойничьей шайки, то мудрым правителем, стоявшим у истоков новгородской демократии, то самодержавным тираном.
Если сам Рюрик представляется многим историкам достаточно предположительной фигурой, то еще более «предположительны» другие персонажи, часто упоминаемые в связи с Рюриком, — его мать Умила, дочь Госто-мысла, жена Ефанда, дочь норманского князя, его соперник Вадим. Даже имена его братьев Синеуса и Трувора некоторые ученые считают неправильно понятыми словами какого-то древнескандинавского источника. По словам Б.А. Рыбакова, «историки давно обратили внимание на анекдотичность братьев Рюрика, который сам, впрочем, является историческим лицом, а братья оказались русским переводом шведских слов sine hus (свой дом) и thru war (верная дружина). Другими словами, в летопись попал пересказ какого-то скандинавского сказания о деятельности Рюрика, а новгородец, плохо знавший шведский язык, принял традиционное окружение конунга за имена его братьев».
Не все разделяют такую точку зрения. Е.А. Мельникова и В.Я. Петрухин, напротив, считают, что «необоснованны и не соответствуют морфологии и синтаксису древнешведского языка попытки истолковать имена Синеус и Трувор как осмысленные летописцем в качестве личных имен древнешведские фразы «со своим домом и верной дружиной», подразумевающие восхождение легенды к прототипу на древнешведском языке. Прямо противореча всему тому, что известно о языковых связях Древней Руси и Скандинавии, это предположение не учитывает и того, что скандинавские имена, рефлексами которых являются Синеус и Трувор, хорошо известны, в частности, по руническим надписям X — XI вв.».
Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что Рюрик — не столько реальная историческая личность, сколько один из символов, связующих наши страны.
Гринев Н.Н. Легенда о призвании варяжских князей//История и культура древнерусского города. М., 1989; Клейн Л.С. Спор о варягах. СПб., 2009; Мельникова Е.А., Петрухин В. Н. Легенда о призвании варягов и становление древнерусской историографии//Вопросы истории. 1995/2; Михайлович Д.М. Сага о конунге Рорике и его потомках. М., 1995; Никитин А. Первый Рюрик-миф или реальности/Наука и религия. 1991/4; Шаскольский И.П. Антинорманизм и его судьбы//Проблемы отечественной и всеобщей истории. Вып. 7. Л., 1983; Янин В.Л. Русь на Волхове // Родина, 1999/8; Фомин В.В. Варяги и варяжская Русь. К итогам дискуссии по варяжскому вопросу. М., 2005.
Жена Ярослава Мудрого

Шведская принцесса Ингигерд, жившая в конце эпохи викингов, является знаковой фигурой в истории русско-шведских отношений раннего средневековья. Ее имя довольно часто встречается в исландских сагах, упоминают ее и русские источники. Она гораздо более реальная по сравнению с Рюриком историческая личность. Конечно, исторические источники лишь в самых общих чертах рисуют ее облик, тем не менее, она уже не предположительный, а реальный персонаж, оставивший след в истории двух стран.
Ее отцом был воспетый в исландских сагах Улоф Шётконунг, принявший христианство и ставший первым королем свеев и гетов. Ее мать — вендская (балто-славянская) принцесса Эстрид. Едва достигнув совершеннолетия, Ингигерд была вовлечена в политику, но при этом она не была пешкой в чужой игре, а пыталась играть самостоятельную роль, отвечавшую ее амбициям и запросам.
Норвежский конунг Олав Харальдссон в своем стремлении к объединению Норвегии и ликвидации ее зависимости от Швеции и Дании оказался в состоянии военного конфликта с Улофом Шётконунгом. В 1017 г. он решил помириться с ним и послал к нему своих послов Бьерна и Хьяльти, поручив им посватать за него Ингигерд. Выслушав Хьяльти, Ингигерд сказала: «Если Олав в самом деле такой достойный человек, как ты об этом рассказываешь, то я не пожелала бы себе лучшего мужа». Она попыталась склонить отца к миру: «Тебе самому только хуже от того, что ты хочешь владеть Норвегией… На твоем месте я позволила бы Олаву Толстому владеть своей отчиной и помирилась с ним». Но Улоф не считал Олава равным себе конунгом и отказался выдать за него дочь. Он заявил ей: «Ты хочешь, чтобы я отказался от Норвегии и выдал тебя замуж за Олава Толстого? Этому не бывать! Лучше я этой зимой объявлю в Упсале на тинге (народном собрании. — Г. К.) всем шведам, что народ должен собираться на войну. Я отправлюсь в Норвегию и предам эту страну огню и мечу». Однако на тинге в Упсале в феврале 1018 г. бонды (свободные земледельцы. — Г. К.) заявили Улофу: «Мы хотим, чтобы ты помирился с Олавом Толстым, конунгом Норвегии, и дал ему в жены дочь свою Ингигерд», и Улоф дал обещание помириться с Олавом Харальдссоном и выдать за него дочь.
Ингигерд уже считала себя невестой Олава и послала ему шелковый плащ с золотым шитьем и серебряный пояс. Весной Олав отправился в свадебную поездку на шведско-норвежскую границу, но не дождался невесты. Улоф медлил с исполнением обещания, а Ингигерд «была озабочена и удручена», поскольку боялась, что он не сдержит данного им слова. Ее опасения не были напрасны, ибо в конце концов он «возненавидел Олава так, что никто не осмеливался произносить при нем его имя», и сказал Ингигерд: «Как бы ты ни любила этого толстяка, тебе не бывать его женой, а ему твоим мужем. Я выдам тебя замуж за такого правителя, который достоин моей дружбы».
Ингигерд не стала женой Олава, но она не забыла его, и, когда в 1028 г. он приехал в Новгород, «все знатные и славные люди ценили Олава конунга, когда он был там, но всех больше — Ингигерд княгиня, потому что Олав и Ингигерд любили друг друга тайной любовью».
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: