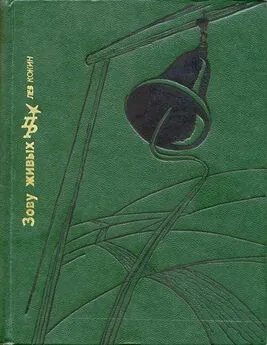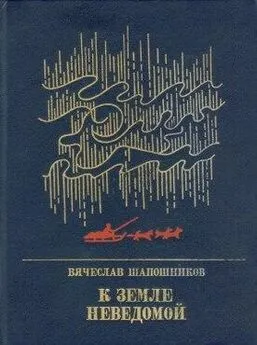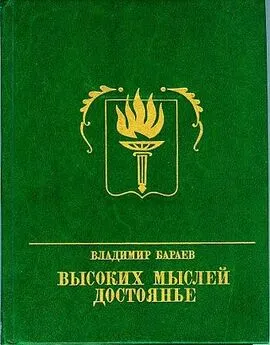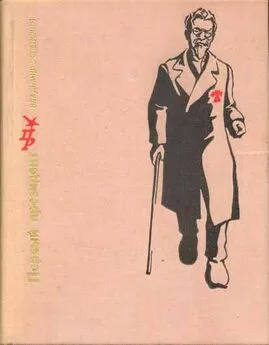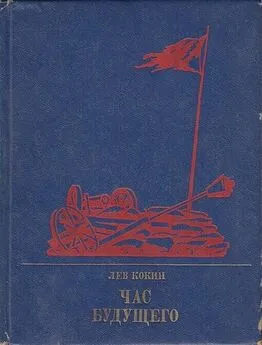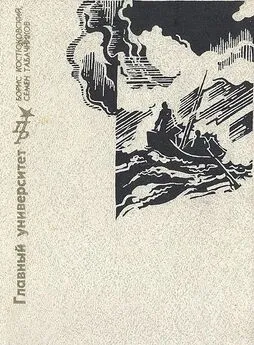Лев Кокин - Зову живых: Повесть о Михаиле Петрашевском
- Название:Зову живых: Повесть о Михаиле Петрашевском
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Политиздат
- Год:1981
- Город:М.
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Лев Кокин - Зову живых: Повесть о Михаиле Петрашевском краткое содержание
В повести «Зову живых» Лев Кокин обратился к раннему периоду социалистического движении в России. В центре повести — дерзкая, светлая и в то же время трагическая фигура Михаила Васильевича Петрашевского, неутомимого «пропагатора» и непреклонного борца «со всяким насилием и всякой неправдой». В мрачную николаевскую эпоху этот рыцарски самоотверженный человек поверил в будущее счастливое общество. И никакие выпавшие на его долю испытания не заставили Петрашевского поступиться своими убеждениями.
Повесть, тепло встреченная читателями и прессой, выходит вторым изданием.
Зову живых: Повесть о Михаиле Петрашевском - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
В тот вечер гулявшие допоздна по Большой улице горожане (была пасха) могли наблюдать за очередным кутежом у Беклемишева. Уверенный в безнаказанности муравьевский клеврет напоказ, на виду, без стеснения справлял на балконе тризну. Ночью ему в доме побили окна. Город негодовал. Петрашевскому, только что ратовавшему в газете за распространение понятий о правах личности и справедливости, выпал случай перейти от слов к делу… «возбудить юридическое сознание в обществе».
У Шестунова придумали разнести по городу приглашение на похороны Неклюдова.
«Отпечатать афишку!» — предложил Петрашевский.
За разрешением вызвался сам сходить к замещавшему Муравьева в его отсутствие генералу, старику недалекому, коего за глаза весь чиновный Иркутск насмешливо звал Карлушей.
Карлуша водрузил очки на нос, пожевал губами. «Сего апреля, 18-го дня в субботу на Иерусалимском кладбище имеет быть погребение…» И, не удивившись, почему именно Петрашевский явился к нему с этим, размашисто подмахнул бумажку. Дело вообще принимало нежелательный для старика оборот. Даже архиерей, говорили, отзывался неодобрительно и дозволил церковное отпевание, коего дуэлистов церковь лишает.
Накануне похорон отпечатанные в типографии афишки рассылали по почте, расклеивали на перекрестках, разбрасывали по Большой улице из шестуновских окон и раздавали прохожим и даже на площади под качелями в толпе гуляющего народа — это делал сам Петрашевский, и притом с комментариями. И еще расклеивали на столбах писанные от руки: «Шайка разбойников принимает заказы на убийства», а дальше перечислены поименно Беклемишев и приятели беклемишевские — все тринадцать, все любимчики Муравьева.
За два века не видала столица Восточной Сибири такого многолюдства, как в назначенный день похорон. Потому никто не мог в точности определить, какую часть населения составляла эта масса народу. Называли и десять тысяч (так, во всяком случае, с курьером донесли Муравьеву), и восемь, и две; и слово «убийство» было в толпе у каждого на устах. Годами накопленное недовольство, глухой ропот против заправлявшей Сибирью клики вдруг обнаружили себя, прорвались, и едва ли кому приходило в голову усомниться, что смерть чиновника послужила всего лишь толчком. Когда на кладбище, над открытой могилой, в виду всех городских чинов, Петрашевский сказал речь об изменническом убийстве, он, конечно, метил не только в виновника смерти, и это было многим понятно. И когда на другой неделе «Губернские ведомости» поместили статью Федора Львова, где порицались дуэли как недопустимый в цивилизованном обществе обычай («Неужели аргументом нам непременно должен быть кулак или пуля?»), а вместе с тем говорилось, после упоминания недавних событий, что и нравственность, и законность отграничивают этот предрассудок чести от преступных убийств и поэтому всегда требуется строгое и беспристрастное исследование причин, — иркутский читатель без труда догадывался, что разумеет между строк автор.
По утрам полицейские солдаты смывали и стирали с заборов надписи против начальства, а вечером они появлялись снова. Свежая могила Неклюдова утопала в цветах, хотя у покойного не было в Иркутске ни родных, ни друзей; в церквах поминали убиенного раба божия, а гимназисты кричали при встрече Беклемишеву в лицо: «Убийца идет! Убийца идет!» На гимназистов можно было лишь жаловаться Карлуше, а вот когда под окном у клеврета поднял шум подвыпивший солдатик и Беклемишев велел его отправить в полицию, а тот спьяну и брякни, что его вести не за что, он никого, как другие, не убил, — так уж на нем клеврет отыгрался: прогнали бедолагу сквозь строй и закатали в каторжную работу…
Между тем генерал-губернатору услужливо вдогон донесли о десяти тысячах посторонних на похоронах, не забыв ввернуть фразу о бунте, а также о тех, кто щедро награждал Беклемишева и его дружков званием убийц и распространял кривотолки между народом. «Петрашевский — поселенец, — докладывали начальству, — и если он себя в городе держать не умеет, то слишком легко препроводить его в дальние округа и даже дать ему тридцать плетей без всякой за то ответственности». Возбуждение «юридического сознания» угрожало последствиями…
Что ответит генерал-губернатор из своего далека? Ответа с нетерпением ждали все — и публика, и чины. Неизвестностью не пришлось долго мучиться. Приказано было провести расследование.
Петрашевский со Львовым получили весточку тою же почтой. Писал им Спешнев, что Муравьев недоволен ими, и предостерегал на будущее, что рискуют променять на популярность расположение генерал-губернатора.
В те дни зашел как-то вечером в библиотеку к Шестунову наезжавший временами в город Владимир Федосеевич Раевский. Первого декабриста здесь почитали своим, он один из немногих не захотел возвращаться из Сибири в Россию, получив на то право, — он, Бестужев Михаил, Горбачевский, Завалишин, вот, пожалуй, и все из оставшихся в живых. Прошлым годом, правда, на родину съездил. Побывал в Курской губернии, в Москве, в Петербурге. Воротился разочарованным. Рассказывал, как вначале смотрел на все с жадностью, читал журнальные статьи, пока не уразумел, что «новые принципы», «прогресс», «гласность» — все это игра без конца. «Где существуют привилегированные касты и личности выше законов, где частицы власти суть сила и произвол, там не гомеопатические средства необходимы! — говорил он в своей манере, определенно и резко. — В наше время освобождение крестьян было ближе к делу».
Этот бывший майор Южной армии, кишиневский приятель Пушкина и поэт, сам много лет уже крестьянствовал на сибирской земле, верстах в восьмидесяти от Иркутска. В селе Олонки на Ангаре имел мельницу, скот, в сельскохозяйственной школе учил олонских крестьян; насадил знаменитый на всю губернию сад; арбузы и дыни впервые появились на иркутском рынке с его огорода; жена его, крестьянка олонская, растила с ним шестерых детей… У Шестунова в Иркутске всегда бывали рады блестящему разговору его, такому, что заслушаться можно, — это даже Михаил Александрович Бакунин признавал, а уж он знал в речах толк.
На сей раз Раевский приехал не только по хозяйственным делам, как обыкновенно, но и держать корректуру в «Губернских ведомостях». Хозяйство хозяйством, однако не иссяк еще порох. При первой попытке печатной гласности в Иркутске не преминул выставить факты злоупотреблений, бесчеловечия, зверств, имея в виду любимца муравьевского Беклемишева с его подвигами за Байкалом. Теперь статья эта, по мнению Петрашевского — а к нему стал прислушиваться и сменивший Спешнева редактор «Ведомостей», — должна была прийтись особенно кстати.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: