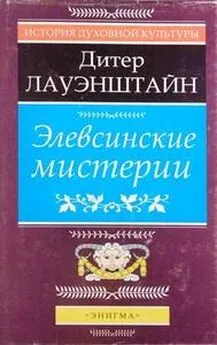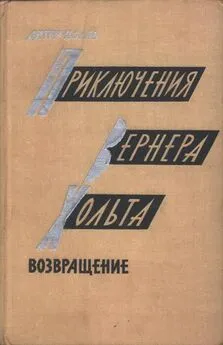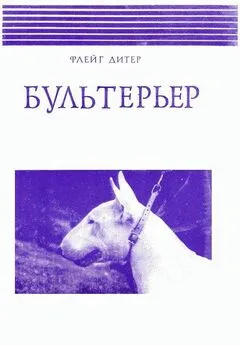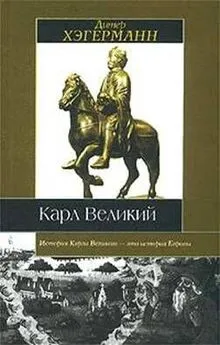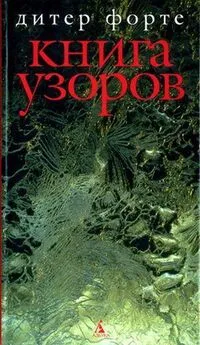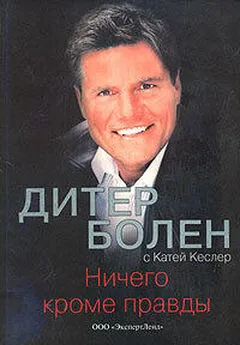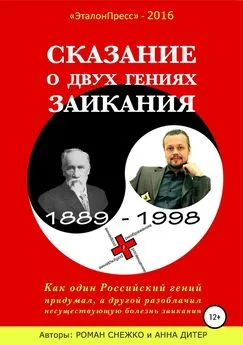Дитер Лауэнштайн - Элевсинские мистерии
- Название:Элевсинские мистерии
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Энигма
- Год:1996
- Город:Москва
- ISBN:5-7808-0002-2
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Дитер Лауэнштайн - Элевсинские мистерии краткое содержание
Книга немецкого ученого Дитера Лауэнштайна посвящена крупнейшему мистериальному центру Древней Греции — Элевсину.
Привлекая античные источники и материалы новейших археологических исследований, автор пытается воссоздать ход этого религиозного празднества и понять опыт и переживания мистов, связанных обетом молчания под угрозой смерти.
Исследование не имеет аналогов в мировой научной литературе и является первой публикацией на русском языке, целиком посвященной этой проблеме.
Элевсинские мистерии - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
В "Федоне" (69 b — d) Сократ в день своей смерти наставляет юношей Симмия и Кебета: "Между тем, истинное — это действительно очищение от всех [страстей], а рассудительность, справедливость, мужество и само разумение — средство такого очищения. И быть может, те, кому мы обязаны учреждением таинств, были не так уж просты, но на самом деле еще в древности приоткрыли в намеке, что сошедший в Аид непосвященным будет лежать в грязи, а очистившиеся и принявшие посвящение, отойдя в Аид, поселятся среди богов. Да, ибо, как говорят те, кто сведущ в таинствах, "много тирсоносцев [участников. — ДА], да мало вакхантов" [воодушевленных. — ДА], и "вакханты" здесь, на мой взгляд, не кто иной, как только истинные философы. Одним из них старался стать и я — всю жизнь, всеми силами, ничего не упуская. Верно ли я старался и чего мы достигли, мы узнаем точно, если то будет угодно богу, когда придем в Аид. Ждать осталось недолго, сколько я понимаю". Эта же тема — приводить здесь еще цитаты было бы излишне — развивается в Платоновом "Горгии" (523 ел.). Уже скромная ипостась сына повитухи, "промышляющего тем же ремеслом", — ипостась, в которой исторический Сократ вел свои увлекательные беседы6, отвечает задаче Элевсиний: рождению человека духовного из человека естественного.
Образ воспарения мыслящей души к миру идей — в пространственных категориях: выше звезд, то есть вместе с одиннадцатью богами к небесно-духовному пиршеству (двенадцатое божество, Гестия, неизменно остается дома), — мы и полагаем основой действа в Телестерионе. "Федр" — единственный диалог, состоявшийся у Сократа вне афинских стен (так утверждает Платон). И этой чести удостоилось место, где за рекой Илисс праздновали в феврале Малые мистерии (229 ел.).
По "Федру" (244–245), Платон знает три пути приобретения углубленного религиозного опыта, конечно же сильно уступающих возвышению посредством его "Первой философии". Так вот, есть четыре вида mania, или неистовства от бога. Во-первых, напастное прорицательство; говорить о нем как об искусстве, пожалуй, слишком много чести. Носители его — пифия в Дельфах, жрицы в Додоне и несколько сивилл в Азии. Во-вторых, птицегадание. Уровнем выше находятся очистительные ритуалы и таинства, затрагивающие всего человека и посредством молитвы и почитания богов избавляющие его от болезней и тяжких бедствий. Третья mania — это поэзия, которая "охватывает нежную и непорочную душу" в творчестве. Четвертая — наивысшая — форма исступленности души (mania) есть прозрение вечной истины через философию. Касательно этого высочайшего пути к богу Платон в Седьмой книге "Государства" приводит свою знаменитую притчу о пещере, которая доныне являет собою глубочайший и при том весьма схожий с Элевсиниями символ ступеней познания.
Грекоязычный египтянин Плотин (204/5—270), живший на 600 лет позже Платона, четверть века преподавал в Риме его учение. Незадолго перед смертью в одной из усадеб под Неаполем он встретил своего врача Евстохия такими словами: «"А я тебя все еще жду", потом сказал, что сейчас попытается слить то, что было божественного в нем, с тем, что есть божественного во Вселенной»7.
В Аттике, насколько нам известно, Плотин не бывал. Но хотя он и не видел тамошних таинств, все же охотно прибегал к их образам. Так, в день рождения Платона, который в кругу Плотиновых учеников непременно отмечался речами, философ похвалил стихотворение своего будущего издателя и биографа Порфирия о священном бракосочетании, воскликнув: "Ты показал себя и поэтом, и философом, и иерофантом!"8
После смерти Плотина Амелий вопросил дельфийского бога, где пребывает душа учителя, и услыхал такой ответ: "Ныне же тело свое ты [Плотин. — Д.А] сложив, из гробницы исторгнув божию душу [daimon — Д.Л.] свою, устремляешься в вышние сонмы светлых богов, где впивает она желанный ей воздух, где обитает и милая дружба и нежная страстность, чистая благость царит, вновь и вновь наполняясь от бога вечным теченьем бессмертных потоков, где место любви, и сладковейные вздохи, и вечно эфир несмутимый, где от великого Зевса живет золотая порода — и Радаманф, и Минос, его брат, и Эак справедливый, где обретает приют Платонова сила святая, и Пифагор в своей красоте, и все, кто воздвигли хор о бессмертной любви…"9
Плотин представляет на обозрение идеи (1.6,8–9): "Если оно пробудилось недавно, оно не может видеть слишком большой блеск. Поэтому сначала нужно приучить самую душу видеть прекрасные занятия, потом прекрасные произведения, не те, которые создаются искусствами, но те, которые создаются так называемыми хорошими людьми. Потом рассматривай душу тех, кто творит прекрасные дела. Но как же сможешь ты увидеть ту красоту, которой обладает добрая душа? Восходи к самому себе и смотри. Если ты видишь, что сам ты еще не прекрасен, то подобно тому как творец изваяния в том, что должно стать прекрасным, одно удаляет, другое отделяет, одно сделает гладким, другое очистит, покамест не покажет на статуе прекрасную наружность, — таким же образом и ты удаляй излишнее и выпрямляй все кривое.
Очищая темное, делай его блестящим и не прекращай сооружать свою статую до тех пор, пока ты не увидишь, что целомудрие восседает на священном престоле".
Благообразие души заключено в добродетелях, в высших идеях и, наконец, в том едином, что, находясь над ними всеми, питает их и сохраняет. Душа становится тем прекраснее, чем менее она своенравна и дерзка. Подобно материи, которая, чтобы воспринять духовные формы, образы (typoi), должна быть свободна от всякого качества, — душа, чтобы наполниться верховной сущностью, сама должна стать аморфной. В таком именно единении Минос общался с Зевсом, и, "редактируя свое уложение, он продолжал находиться под влиянием божественного наития" (VI.9,7).
В сиянии единого блага душа расцветает наивысшей красотою. Единое же окутано "прекрасным", то есть Афродитою (VI.9,9), точно покровом; и однако, все прекрасное есть впоследствии опять-таки единое и исходит от него, точно сияние от солнца (VI.9,25; VI.9,9). Мы "в этом разе уподобляемся хору певцов, которые, хотя всегда окружают корифея, но иногда поют нестройно, не в такт, потому что, отвернувшись от него, обращают взор и внимание на что-нибудь постороннее, между тем как если бы они были постоянно обращены лицом к нему, то пели бы стройно, составляя все как бы одно с ним. Подобным образом и мы всегда находимся вокруг верховного существа, <���…> но только не всегда мы направляем взоры свои на него, зато всякий раз как удостаиваемся узреть его, мы достигаем последнего предела наших желаний, успокоиваемся, не внося более никакого диссонанса в целый, окружающий Первоединого, божественный хор. Кто удостоится присутствовать в этом хоре, тот может узреть здесь источник жизни, источник ума, начало всякого бытия, причину всякого блага, корень души" (VI.9,8 ел.).
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: