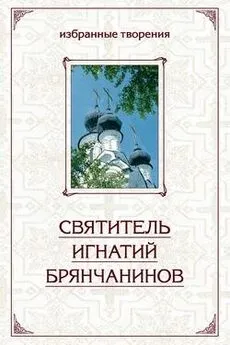Григорий Джаншиев - Эпоха великих реформ. Исторические справки. В двух томах. Том 1
- Название:Эпоха великих реформ. Исторические справки. В двух томах. Том 1
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент «Территория будущего»19b49327-57d0-11e1-aac2-5924aae99221
- Год:2008
- Город:Москва
- ISBN:5-91129-049-9
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Григорий Джаншиев - Эпоха великих реформ. Исторические справки. В двух томах. Том 1 краткое содержание
Григорий Джаншиев одним из первых начал изучение истории судебной реформы и вообще преобразований шестидесятых годов. Различным сторонам этой эпохи он посвятил несколько крупных монографий и написал ряд биографических этюдов о выдающихся деятелях крестьянской и судебной реформы. Свои статьи он собрал в книге «Из эпохи великих реформ», которое было подготовлено и издано к 30-летнему юбилею Великих реформ (1891 г.) Далее в течение 16 лет книга выдержала десять изданий, что блестяще иллюстрирует ее популярность и значение.
«Эпоха Великих Реформ» вышла в 1892 г. и выдержала с тех пор ряд изданий, при жизни автора постепенно дополнявшихся. Эта книга была весьма популярна не только среди видных судей, юристов и видных русских деятелей, но и среди зарубежной общественности и среди широких масс. Издание сыграло серьезную общественно-воспитательную роль как единственная история реформ царствования Александра II. Девятое издание, вышедшее в 1905 году, являлось одним из самых дополненных и пересмотренных, к тому же оно стало первым изданием Литературного Фонда.
Эпоха великих реформ. Исторические справки. В двух томах. Том 1 - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Именно такой язык, которым говорил Джаншиев, именно тот дух, которым насыщена его книга, были необходимы тогда обществу. О шестидесятых годах, конечно, знали, но нужен был поэт, чтобы славная эпоха ожила, нужно было заразительно бодрое настроение, чтобы помешать искусственно навеваемому сну сковать наше общество, чтобы не дать индифферентизму и отчаянию охватить его. «Эпоха реформ» сделала много в этом отношении.
Джаншиев не мог писать иначе, когда ему приходилось говорить о таких вещах. Его тон подсказывался ему его верою, его неизменным жизнерадостным и бодрым настроением. Он был глубоко убежден в том, что светлое настроение шестидесятых годов вернется, что те явления, с которыми в девяностых годах приходится сталкиваться на каждом шагу – преходящие явления, что эволюция русской общественной и политической жизни неуклонно идет к идеалам, одушевлявшим его и его друзей. Он не знал, что такое уныние, и деятельно боролся с пессимизмом друзей, которые находили, что могло бы быть и получше. «Эпоха реформ» не только отражает настроение Джаншиева, она сохранила и ту способность, за которую все так любили ее автора – способность не давать падать духом.
В наше время эта способность, пожалуй, еще драгоценнее, чем в девяностых годах. Теперь бодрящий голос еще нужнее, чем тогда, и вот почему, думается, можно бы смело поставить на книге старый эпиграф: «vertite manu diurna, vertite nocturna». За этот бодрый тон можно простить ей ее чисто научные недочеты.
«Эпоха реформ» – не труд историка в собственном смысле. Читатель напрасно стал бы искать в ней всестороннего освещения различных моментов движения шестидесятых годов. Очерк подготовки реформ – почти отсутствует, истолкования классового характера крестьянской реформы нет совершенно, экономические предпосылки ее не выяснены. Словом, опущены научные вопросы, правильное решение которых могло бы помочь социологическому истолкованию такого важного факта, как движение шестидесятых годов.
Но Джаншиев и не преследовал этой цели. Он вполне сознательно ограничил свою задачу прагматическим очерком, потому что писал не научный трактат, а памфлет. В последних изданиях книга стала несколько грузна для памфлета, но основной характер ее от этого не изменился.
Научная разработка истории шестидесятых годов шла и идет независимо от Джаншиева, но в «Эпохе реформ», думается, есть нечто, не уступающее по важности правильной постановке и правильному решению научной задачи. Она примыкает к довольно многочисленной в историографии семье книг, лучшим представителем которой является «История революции» Мишле. Так же, как и «Эпоха реформ», книга Мишле слаба в научном отношении, но ее картинность и энтузиазм, которым она проникнута, сыграли крупную общественную роль в истории Франции. Не сопоставляя талант обоих писателей, нельзя не признать, что «Эпоха реформ» близкая родственница «Истории революции». И я думаю, что почетный титул «первого историка эпохи великих реформ», который дан Джаншиеву таким компетентным судьею, как П. Н. Милюков, вполне им заслужен, несмотря на научные пробелы книги.
В «Эпохе великих реформ» Джаншиев делал не столько научное, сколько общественное дело, был прежде всего публицистом, как был публицистом во всех своих писаниях, не исключая путевых очерков. Он не мог иначе. Так уж у него была устроена голова, что он все, о чем думал и о чем говорил, прикидывал на общественную мерку. Потому-то его так и любят все, кто любит принципы света и свободы; потому-то его так и ненавидят все, чьим мелким и грязным делишкам мешают и свет, и свобода. Сколько доносов сыпалось на Джаншиева со страниц органов полицейского сыска, сколько ругательств и клеветы приходилось ему выслушивать со столбцов казенно-шовинистских изданий. Он был даже однажды вызван на дуэль: очень уж больно хлестнуло его меткое слово одного из «ученых» ремесленников [8].
Публицист Джаншиев может не жалеть о том, что он не был настоящим историком. Он сделал своим публицистическим пером столько, сколько редкий историк сделает своими учеными исследованиями. Восемь изданий «Эпохи реформ»– пьедестал достаточно высокий, а пьедестал Джаншиева составился не только из «Эпохи реформ».
Публицистика захватывала Джаншиева все больше и больше, но, постоянно сокращая свою адвокатскую практику, он продолжал горячо интересоваться вопросами организации суда, теми учреждениями, которые были созданы Судебными Уставами Александра II. Заведуя юридическим и судебным отделом в «Русских Ведомостях », он имел случай высказываться по множеству крупных и мелких вопросов [9].
Я не буду рассматривать их все и остановлюсь лишь на двух вопросах, которые для самого Джаншиева казались наиболее интересными. Им он посвятил по отдельной книжке. Я имею в виду «Ведение неправых дел» и «Суд над судом присяжных».
«Ведение неправых дел»– этюд по адвокатской этике. Эту книжку следовало бы раздавать бесплатно молодым адвокатам, при принесении ими первой присяги. Она снабдила бы принципами не одного из нынешних представителей сословия, считающих совесть и честь чем-то в высокой степени ненужным. В этой книжке Джаншиев ярко и горячо восстает против того принципа, что адвокат может браться за защиту по всяким делам, правым и неправым – безразлично. Для него кажется диким, каким образом сенат, своим известным разъяснением по делу Лохвицкого, как бы узаконил такое понимание. Для него адвокат, убежденный в том, что он защищает негодяя и тем не менее принимающий на себя защиту только потому, что тот не совершил ничего противозаконного и наказуемого, – такой адвокат представляется чем-то поистине чудовищным, каким-то уродом, которому имени нет. Как блестяще разбивает он аргументацию своих противников, которые апеллируют и к сыну Сирахову, и к идее абсолютной морали, чтобы доказать, что в защите неправых дел нет ничего предосудительного. И в этом вопросе Джаншиев мог торжествовать: на его стороне были лучшие наши публицисты и адвокаты, которые хотя об абсолютной нравственности не разговаривают, но отлично знают разницу между тем, что честно и бесчестно.
То же было и в вопросе о суде присяжных. Этот институт всегда был бельмом на глазу у наших обскурантов, потому что он выносил вопрос о преступлении и наказании из бюрократической канцелярии на суд общества, в светлые залы, где громко говорят и по совести решают, виновен человек или нет, где не руководствуются никакими «высшими» соображениями. В середине 90-х гг. гонители суда присяжных что-то особенно освирепели, и на учреждение посыпалось отовсюду столько клеветы и ругани, что можно было опасаться, как бы оно не зашаталось. К счастью, опасения оказались неосновательны. Секция комиссии по пересмотру судебного законодательства, работавшая под председательством А. Ф. Кони, всеми голосами против двух высказалась за сохранение суда присяжных. Один из оставшихся в этом меньшинстве, прокурор Петербургской судебной палаты г. Дейтрих, вздумал излагать свои соображения печатно. Ему-то и прочел отповедь Джаншиев, прихватив, кстати, столь же глубокомысленные размышления «Гражданина». Из полемических газетных статей выросла блестящая апология суда присяжных, которая надолго сохранит свое значение в литературе, наряду со статьями А. Ф. Кони, М. Ф. Громницкого, П. М. Обнинского и других наших лучших юристов.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: