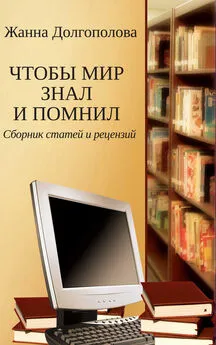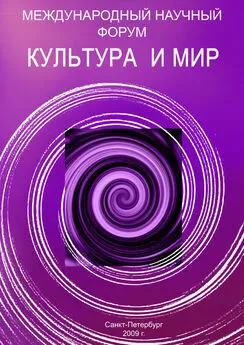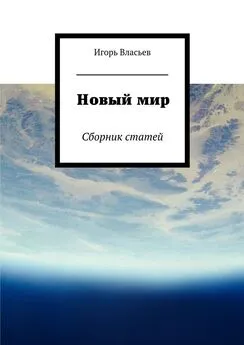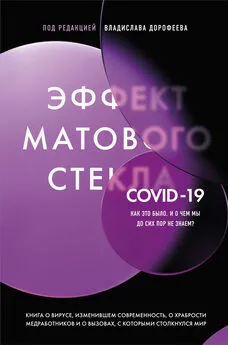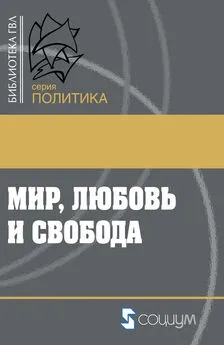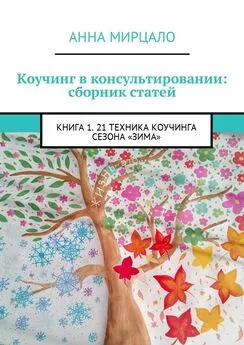Жанна Долгополова - Чтобы мир знал и помнил. Сборник статей и рецензий
- Название:Чтобы мир знал и помнил. Сборник статей и рецензий
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент «Стрельбицький»f65c9039-6c80-11e2-b4f5-002590591dd6
- Год:2014
- Город:Chicago
- ISBN:978-1499196405
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Жанна Долгополова - Чтобы мир знал и помнил. Сборник статей и рецензий краткое содержание
Книга представляет собой сборник статей и рецензий, написанных на русском языке в течение 2002–2011 гг. и опубликованных в русскоязычных эмигрантских изданиях и сетевых журналах, а также в московском журнале «Новое литературное обозрение» и киевском альманахе «Егупец». В разделе «Статьи» помещены семь больших историко-аналитических обзоров, среди которых стоит особенно выделить четыре: подробнейший разбор книги американского историка Тимоти Снайдера «Земли, кровью умытые: Европа между Гитлером и Сталиным», а также статьи «Сэр Николас – британский Отто Шиндлер», «Рафаэл Лемкин – отец “Конвенции о предупреждении преступления геноцида”» и «“Протоколы сионских мудрецов” в Америке. Бурлила мутная река». В разделе «Рецензии» помещено двадцать рецензий, охватывающих широкий диапазон тем в области литературы и истории, среди которых можно отметить: «Мара Мустафина. Секреты и тайны: дело харбинцев», «Кухня в нашей памяти: наследство женщин Терезина», «Джозеф Горовиц. Деятели искусства в изгнании: как беженцы от войны и революции XX века преобразили исполнительское искусство Америки», «Елена Краснощекова. Роман воспитания – Bildungsroman – на русской почве. Карамзин, Пушкин, Гончаров, Толстой, Достоевский», «“Путем туннеля”: наблюдения над поэтикой Владимира Маканина» и «Мишель Берди. Цена русского слова: познавательный и развлекательный путеводитель по русской культуре, языку и переводу». Книга представляет интерес как для широкой русскоязычной эмигрантской аудитории, так и для читателей в современной России.
Чтобы мир знал и помнил. Сборник статей и рецензий - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Сборник эссе «Утонувшие и спасенные» (1986) Леви считал своей главной книгой. Он вынашивал ее сорок послевоенных лет, и она оказалась своего рода двойником его первой книги «Человек ли это?», повзрослевшим, возмужавшим, менее склонным к рефлексии, чаще отвечающим на вопросы, чем задающим их, но снова и снова анализирующим лагерь во всех его зонах. «Утонувшими», или дословно «ушедшими на дно»,? этим заимствованным из «Божественной комедии» словом называет Примо Леви погибших в лагере. Только они могли бы рассказать всю голую правду о нацистском лагере, потому что у них не было (или не стало) никаких «привилегий». Но их нет, и рассказывать приходится «спасенным», то есть тем, кто попал в «серую зону» «привилегий» или «везений»; свои «везения» Леви перечислил в начале первой книги «Человек ли это?». В языке Примо Леви нет уничижительного словца, адекватного русскому «придурки», он терпеливо и настойчиво разъясняет, что прямолинейные оценки («утонувший»? хороший, а «спасенный»? плохой) в лагере не работают. Но вся жизнь «спасенных» омрачена чувством вины перед мертвыми и стыдом перед живыми: за то, что остались живы, за то, что были свидетелями нечеловеческого бытия, за то, что помнят все, что было, и от этого чувства вины и стыда одни «спасенные» выбирают молчание, другие гласность, а часто, непропорционально часто и молчальники, и рассказчики кончают жизнь самоубийством.
Вспоминая и реконструируя Lager? это исчадие зла, Леви тверд в своем отношении к сеятелям зла: я не прощаю («Я не склонен прощать… я никогда не прощал наших врагов тех дней и никогда не сумею простить их имитаторов… потому что не знаю, каким человеческим поступком можно загладить преступление»), не мщу («Отвечать насилием на насилие никогда меня не привлекало»), я хочу справедливого суда («Я верю в разум, в обмен мыслями, в дискуссию как высший инструмент прогресса… я выбираю правосудие»). Обращаясь к немцам, пережившим войну, Леви говорит: «Чтобы судить, я хочу понять вас». Он цитирует и комментирует письма, которыми в разные годы обменивался с немцами. В 1959 году, узнав о готовящемся в Германии издании книги «Человек ли это?», Примо Леви написал, как сам признавался, «оскорбительное» письмо издателю, требуя ни слова не менять в тексте, каждую главу присылать ему на проверку и выполнять все его замечания. В ответ он получил первую главу в прекрасном переводе и письмо от переводчика на безупречном итальянском. Переводчик оказался сверстником Леви, он учился в Италии, специализировался на исследовании творчества Гольдони.
К удивлению Леви, он оказался не «тем» немцем. В 1940 году его призвали в армию, но нацистская идеология была ему столь отвратительна, что он симулировал болезнь, был госпитализирован, отправлен на поправку в Падую, где сумел посещать лекции по итальянской литературе; потом ухитрился скрыться и связаться с итальянской антифашистской группой, а в сентябре 1943 года, когда немцы заняли северную Италию, уйти в партизанский отряд и сражаться с нацистскими оккупантами. С окончанием войны он поселился в Берлине, управляемом в те дни «большой четверкой» – США, СССР, Великобританией и Францией. Университетские лекции и партизанские будни сделали его подлинно двуязычным, без акцента, да еще со знанием венецианского диалекта. Вот почему он начал переводить Карло Гольдони, но переводил и неизвестных до него в Германии Карло Коллоди и Луиджи Пиранделло. На постоянную работу его не брали: дезертир, сражавшийся против своих, он оставался persona non grata и в демократической Германии. Он писал Примо Леви, как близка его сердцу книга «Человек ли это?», что, работая над ее переводом, он продолжает борьбу против одурачивания своих соотечественников. Автор и переводчик сдружились, и, когда немецкий издатель попросил Примо Леви написать предисловие к переводу, тот взамен поместил свое последнее письмо переводчику:
«Ну вот мы и завершили, я рад этому, доволен результатами, благодарен Вам и несколько опечален. Вы понимаете, это моя единственная книга, и теперь, когда и с переводом кончено, я чувствую себя отцом возмужавшего сына, которому больше не нужны мои заботы, и он от меня уходит.
Но не только это. Вы, наверное, поняли, что для меня жизнь в лагере, а потом книга о лагере оказались событием, полностью меня изменившим и давшим мне цель в жизни. Может быть, это самонадеянность, но сегодня я, узник № 174517, могу с Вашей помощью обратиться к немцам, напомнить им, что они сделали, и сказать: “Я жив и хочу вас понять для того, чтобы вас судить”.
Я не верю в то, что жизнь человека имеет предопределение, но, думая о собственной жизни и целях, которые я перед собой поставил, знаю, что главное для меня – предать гласности все, что я видел, и так, чтобы немцы меня услышали… Я уверен, Вы понимаете меня. Я никогда не лелеял в себе ненависти к немцам. А будь она во мне, то встреча с Вами меня от нее полностью бы избавила. Не понимаю, как можно судить человека не за то, что он есть, а за то, к какому сообществу ему довелось принадлежать.
Но не могу сказать, что я понимаю немцев. Непонимание? это брешь, саднящая пустота, вечный раздражитель, требующий сатисфакции. Я надеюсь, что книга эта эхом отзовется в Германии, не из-за честолюбия надеюсь, а потому что отзвук поможет мне лучше понять немцев и унять мою боль».
Всю жизнь Примо Леви получал письма от немцев: «те» немцы объясняли, что не знали, ничего не знали, ни о чем не спрашивали тогда и хотели, чтобы их за это не винили теперь. Немцы из «другого» поколения всю свою жизнь изживали отцовскую вину. Переписка с некоторыми из них длилась до конца жизни писателя, внезапно оборвавшейся 11 апреля 1987 года. Консьержка, выскочившая на шум, увидела на площадке первого этажа распростертое тело Леви и вызвала полицию. С тех пор не прекращаются «разгадки» его смерти. Одни считают, что Леви, находясь в состоянии непроходящей послелагерной депрессии, покончил с собой. Например, Эли Визель сказал (и многие любят это повторять), что «Освенцим доконал его и сорок лет спустя» и что Леви сам объяснил свою смерть в своей книге «Утонувшие и спасенные». Другие уверены, что Леви не мог этого сделать, потому что самоубийство? это сдача, а Леви не из сдающихся, он никогда бы не наложил на себя руки.
Многие (в том числе итальянская судебная экспертиза, полиция, друзья, жена и двое детей Леви, а также социологи, литературные критики и биографы из Оксфорда) говорят, что нет ни достоверных доказательств, ни достоверных опровержений самоубийства, и приводят аргументы за и против. Во-первых, на протяжении многих месяцев Леви жаловался на то, как ужасно жить в одной квартире с синильной матерью, и на то, что от всего этого у него наступила непроходящая депрессия, и на то, что антидепрессанты и транквилизаторы ему не помогают. Тем не менее его творческая жизнь оставалась активной. К примеру, за день до смерти он разговаривал с журналистом, писавшим его биографию, и они наметили встречу. Кроме того, все, кто видел его утром в день смерти, говорят, что он был в своей привычной форме. Часов в одиннадцать утра сказал сиделке, ухаживавшей за матерью, что спускается к консьержке и просил отвечать на телефонные звонки. Трудно представить, чтобы, замыслив самоубийство в ближайшие несколько минут, Леви позаботился бы о телефонных разговорах. Во-вторых, в старинном туринском доме (Примо Леви родился и всю жизнь, за исключением трех военных лет, провел в этой материнской квартире) очень низкие перила, не достающие до пояса даже невысокому Леви. Антидепрессанты и транквилизаторы вызывают слабость, тошноту и головокружение. Леви мог, почувствовав слабость, опереться о перила, не удержаться и упасть. Его смерть могла оказаться несчастным случаем. В-третьих, Леви был тихим (не аффектированным) и скромным человеком. Самоубийство в лестничной клетке трехэтажного дома должно было казаться ему оперно-театральной манифестацией. Если бы он задумал смерть, то, будучи химиком, нашел бы «химические» средства умереть.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: