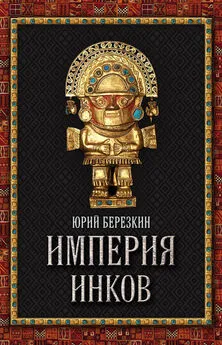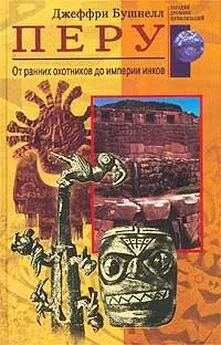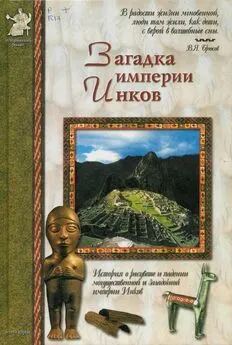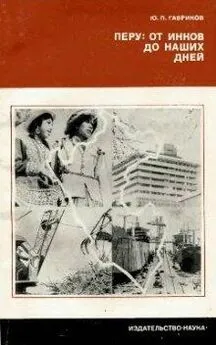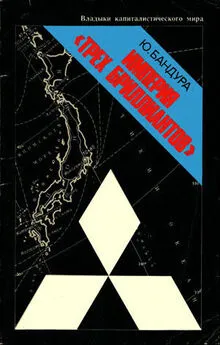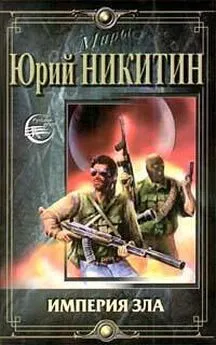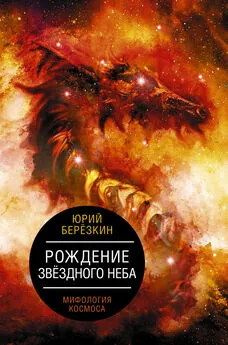Юрий Берёзкин - Империя инков
- Название:Империя инков
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент «Алгоритм»1d6de804-4e60-11e1-aac2-5924aae99221
- Год:2014
- Город:Москва
- ISBN:978-5-4438-0894-9
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Юрий Берёзкин - Империя инков краткое содержание
Книга рассказывает об одной из величайших мировых имперских моделей – «Империи инков». Из всех индейских племен, проживавших на территории Южной Америки, достичь наибольших успехов и реально сформировать настоящую империю, подобную европейским, получилось только у перуанских племен кечуа, создавших могущественную империю инков.
Она унаследовала многовековые традиции более ранних цивилизаций, но возникла из конгломерата сражающихся племен, чьи вожди набивали чучела врагов золой и соломой и пили пиво из человеческих черепов.
Основой этой империи стала продуманная социально-экономическая и административная система. С помощью этой системы инкам удалось в невиданных прежде масштабах мобилизовать трудовые ресурсы огромной страны.
Империя инков - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
В начале 80-х годов американский ученый А. Демарест блестяще продемонстрировал, что индейцы Перу почитали, в сущности, лишь одно-единственное мужское божество, связанное с небом, солнцем, грозой, дождем. Между его отдельными ипостасями и проявлениями имеется известное распределение функций (восходящее и заходящее, летнее и зимнее солнце; видимое светило и предвечный творец; гром, град, рассвет и т. п.), но они чересчур нечетки и слишком тесно взаимосвязаны для того, чтобы говорить об их дискретности и об отдельных божественных персонажах. Этот вывод подтверждается не только анализом дошедших до нас письменных источников, но и более поздними данными о народных верованиях андских индейцев, а также иконографическими материалами культур уари и тиауанако.
В иконографии этих культур, чья территория, как мы знаем, охватывала центральные районы будущей империи, фигура антропоморфного божества – без крыльев в лучистой короне – господствует над всеми прочими. Она бывает обращена к зрителю только анфас, тогда как сопровождающие персонажи, нередко с чертами хищных птиц и животных, расположены от нее по бокам и показаны в профиль. Известны антропоморфные фигуры, на груди которых запечатлен еще один человекоподобный лик. Подобные композиции поддаются истолкованию как, например, отражающие представление о видимом солнце и боге-творце.
Говоря о тенденциях к монотеизму у инков, мы имеем в виду прежде всего тождество или соподчиненность мужских персонажей. Женскому началу в религии Анд отводилось особое место. В официальный пантеон попала главным образом Килья, луна. Главная супруга (и сестра) Сапа Инки сопоставлялась с ней так же, как он сам – с Солнцем. Долго предполагалось, что в народной религии большее значение имела плодоносящая земля, Пачамама («пача» – мир, земля, «мама» – госпожа, хозяйка), поскольку именно ее образ был в XX в. зафиксирован в религии кечуа и аймара наряду с образами христианского Бога, обобщенного и обожествленного «Инки-царя» (Инкарри), а также духов гор. Внимательное прочтение письменных документов колониального времени показало, однако, что Пачамама – не наследие доиспанского прошлого, а результат влияния католицизма с его культом Девы Марии. Воспринималась ли в Андах земля в качестве плодоносящего женского персонажа – большой вопрос. Если у инков и были подобные ассоциации, то они относились к хтонической Маме Окльо – жене и сестре первопредка Манко Капака. Ее храмы были немногочисленны. Один находился в царской крепости Саксауаман, вход в него был оформлен в виде разинутой пасти змеи. Другой храм на севере в Томебамбе был якобы посвящен Пачамаме, но стоявшая внутри статуя изображала Маму Окльо.
В пантеоне уари и тиауанако женский мифологический персонаж представлен, но его функции не очень понятны. Богиню изображает самая большая из сохранившихся статуй Тиауанако. На огромных полихромных сосудах уари божество в лучистой короне показано дважды с обеих сторон, причем детали изображения несколько различаются. Хотя с полной достоверностью пол фигур неопределим, их относительные размеры, пропорции и одежда склоняют к мнению, что одна принадлежит мужскому, а другая – женскому божеству. От I тыс. до н.э. до нас дошли каменные изваяния с изображениями явно выраженных мужского и женского персонажей подчеркнуто равных размеров.
В имперской инкской религии женский принцип отражен на всех уровнях, кроме самого высшего. Как явно следует из рисунка в одной из хроник, составленной знатным индейцем аймара Пачакути Ямки Салькамайуа, творец мыслился единым, а расчленение на мужскую и женскую линии начиналось с уровня видимых божественных манифестаций – Солнца и Луны. О том же свидетельствуют и другие источники.
Для характеристики сложившихся в Андах религиозно-философских концепций весьма показательны изображения на сосудах культуры наска с южного побережья Перу, датируемые первыми веками нашей эры. В сложных сценах с участием множества персонажей менее значительные фигуры показаны исходящими изо рта более значительных. В начале же этой последовательности божественных эманаций находится одно-единственное существо, как бы выделяющее из себя всю иерархию прочих.
На первый взгляд, тенденция к монотеизму соответствовала политической реальности централизованного государства во главе с Сапа Инкой. Однако такое заключение было бы слишком прямолинейным. Если в религии инков сохранились основные идеи религиозных систем уари и тиауанако, то те, в свою очередь, могли многое воспринять от системы, отраженной на изображениях культуры чавин начала I тыс. до н.э., а истоки последней следует, вероятно, искать в представлениях, характерных для строителей монументальных храмов II и III тыс. до н.э. Так что скорее характерные для Центральных Анд представления о мироздании могли повлиять на систему управления в Тауантинсуйю, нежели наоборот.
Почти в те же годы, когда А. Демарест исследовал инкский пантеон, доказав значительную тождественность основных его персонажей, другие перуанисты изучали организацию управления в верхних этажах иерархии Тауантинсуйю. Полученные выводы не подтвердили прежнее представление о главе андского государства как о единоличном владыке, абсолютном самодержце. Речь идет не только о политической реальности, об особых отношениях между Сапа Инкой и остальными орехонами, но и о наличии определенных институционных ограничений власти царя. Иерархическая структура, верх которой занимал Сапа Инка, являлась не строго пирамидальной. Рядом с главой империи проступает не сразу заметная, со времен Пачакути – уже больше церемониальная, но все же наделенная определенными функциями (возможно, функциями верховного жреца) фигура соправителя. В традиционной догосударственной иерархии такой соправитель считался главой младшей фратрии. Поскольку каждая фратрия делилась на два суйю, Сапа Инку, возможно, окружали даже три соправителя, возглавлявших второй, третий и четвертый суйю, в то время как лидером первого был он сам. Как уже говорилось, подобные дуальные иерархические структуры вообще типичны для индейцев Анд. Они отмечены и в вождествах колья, и у уанка, и в долинах северного побережья, входивших ранее в состав царства Чимор. В языке испанских документов XVI—XVII веков для обозначения соправителей даже нашелся устойчивый, имеющий конкретное значение термин – segunda persona, т. е. «второе лицо».
«Открытие» должности соправителя у инков сыграло важную роль в дискуссии относительно сведений хроник о раннем периоде истории Куско. До конца 1970-х годов исследователи с доверием относились к сообщениям, утверждавшим, будто сначала общину Куско возглавляли правители из младшей фратрии хурин и лишь затем власть перешла к фратрии ханан. К ханан принадлежали и все императоры, начиная с Пачакути. В 1960-х годах работавший в Перу, а затем в США голландский ученый Т. Зойдема пришел к выводу, что «цари» из фратрии хурин были всего лишь соправителями при царях из фратрии ханан. Обе генеалогические линии не последовательны, а одновременны, и младшая никогда не была и не могла быть правящей. Якобы имевший место переход власти от одной «династии» к другой есть не что иное, как миф, который принадлежит к широкому классу распространенных среди индейцев повествований о «социальной инверсии». В них рассказывается о том, как группа, имеющая сейчас низкий статус, когда-то была наверху, но утратила свое положение. В эгалитарных обществах (например, у огнеземельцев) структурно сходные мифы описывают переход главенства из рук женщин в руки мужчин.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: