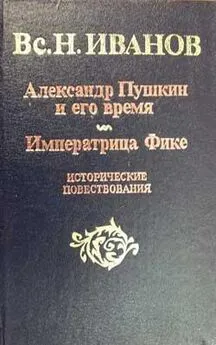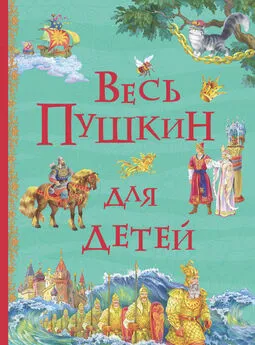Всеволод Иванов - Александр Пушкин и его время
- Название:Александр Пушкин и его время
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Хабаровское книжное издательство
- Год:1985
- Город:Хабаровск
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Всеволод Иванов - Александр Пушкин и его время краткое содержание
Имя Всеволода Никаноровича Иванова, старейшего дальневосточного писателя (1888–1971), известно в нашей стране. Читатели знают его исторические повести и романы «На нижней Дебре», «Тайфун над Янцзы», «Путь к Алмазной горе», «Черные люди», «Императрица Фике», «Александр Пушкин и его время». Впервые они были изданы в Хабаровске, где Вс. Н. Иванов жил и работал последние двадцать пять лет своей жизни. Затем его произведения появились в центральной печати. Литературная общественность заметила произведения дальневосточного автора. Высоко был оценен роман «Черные люди», в котором критика отмечала следование лучшим традициям советского исторического романа.
Последним произведением Bс. H. Иванова стало повествование «Александр Пушкин и его время». Научный редактор книги — профессор, доктор филологических наук П. А. Николаев, он же автор предисловий к первому и второму изданиям этого повествования, — писал: «Среди множества научных и художественных биографий труд Вс. Н. Иванова привлечет к себе внимание читателей оригинальной трактовкой и характера великого поэта в целом, и многих особенностей его миропонимания. Пушкин предстает здесь и как волшебник поэтического слова, и как необычайно живая эмоциональная натура, но главное — как человек с чрезвычайно широким историческим мышлением. Пушкин — великий государственный ум, вот на какую сторону духовного облика поэта обратил внимание Bс. H. Иванов».
Александр Пушкин и его время - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Однако «Пушкин-сочинитель» занят не только карточной игрой, не только устройством своих дел. Пусть в Сенате вставлены выбитые картечью стекла, заштукатурены на стенах щербины, но сердце поэта болит о грядущем. Воспламененный встречей и приемом царя в Чудовом дворце в Москве, однако не обольщенный этим, Пушкин написал «Пророка», целиком обращенного в будущее. Даже сам господь бог бессилен против прошлого — что совершилось, то остается навсегда. И даже артиллерийский погром не мог снести то, что тогда росло так радостно, так бурно в Петербурге и в народе.
И мы видим, как Пушкин, сразу же после возвращения заваленный литературной работой, пожинающий лавры успеха, мучимый подозрениями полиции, начинает разыскивать тех, кто от этого погрома уцелел, — «считать раны, товарищей считать».
Да, есть уцелевшие: первый — генерал А. П. Ермолов, но он далеко. Брат Лев запрошен уже о Кавказе и ответит скоро.
И не все рассеялось, не все еще бежало из Петербурга! Еще живет здесь старый непоколебимый вельможа, адмирал граф Н. С. Мордвинов. Честный и смелый, этот государственный деятель, кандидат в правительство от восставших, бывший в составе вельмож, судивших декабристов, подал свое мотивированное особое мнение против их казни и смертного их приговора не подписал.
Пушкин не уклоняется от возможных к нему вопросов о его личной, собственной позиции в последекабрьские месяцы и годы. Он пишет широко известное стихотворение «Арион», которое звучит в примолкшем, обмелевшем Петербурге по-пушкински, как всегда, мажорно, энергично, сильно, честно, как клятва поэта:
Нас было много на челне;
Иные парус напрягали,
Другие дружно упирали
В глубь мощны веслы. В тишине
На руль склонясь, наш кормщик умный
В молчанье правил грузный челн;
А я — беспечной веры полн, —
Пловцам я пел… Вдруг лоно волн
Измял c налёту вихорь шумный…
Погиб и кормщик и пловец!..
Всего одно лишь слово — «лишь» разрубает судьбы пловцов:
Лишь я, таинственный певец
На берег выброшен грозою,
Я гимны прежние пою
И ризу влажную мою
Сушу на солнце под скалою.
Великолепно рисует сам Пушкин свою роль — роль певца в освободительном движении.
В конце июля 1827 года Пушкин вырывается из Петербурга и скачет в Михайловское и Тригорское. Наконец, сельское уединение, забота Прасковьи Александровны… «Арион» был написан им перед самым отъездом — 16 июля, а в Михайловском 31 июля, очевидно вскоре после приезда, написаны другие стихи на ту же тему — о спасении пловца.
Но какая огромная разница между ними: если первые стихи — утверждение мужественности, отважной воли, то вторые — превозношение женщины как божества за избавление, некий древний церковный гимн — «Взбранной воеводе победительная!».
Не в Петербурге, не в Москве, а именно здесь, в Михайловском, в Тригорском, в деревне — твердый берег, здесь спасение.
Земли достигнув наконец,
От бурь спасенный провиденьем,
Святой владычице пловец
Свой дар несет с благоговеньем.
Так посвящаю с умиленьем
Простой, увядший мой венец
Тебе, высокое светило
В эфирной тишине небес,
Тебе, сияющей так мило
Для наших набожных очес.
Земля, жизнь, женщина распахнули перед поэтом свои объятия. Кто же она, чей женский образ так ослепительно сияет в этих стихах? Не будем гадать и на этот раз, тем более что адресат нарочито засекречен. Стихи эти датированы на черновике 31 июля, а написанные Пушкиным. 14 ноября того же года в альбом по возвращении в Петербург, они знаменательно озаглавлены церковным термином: «Акафист Екатерине Николаевне Карамзиной» — дочери историка. Превращенные в светский мадригал, они, очевидно, скрыли, затаили некую горячую интимность.
Вообще в ряде стихотворений, созданных поэтом в его летнее 1827 года посещение Михайловского — Тригорского, ясно выражен рост уверенности поэта в своих творческих силах.
Этот цикл стихов 1827 года близок по внутренней алмазной твердости Михайловскому циклу «Подражания Корану» 1824 года.
Этот ряд стихов, означенных нарастающим самоутверждением поэта, возглавлен несомненно экстатическим «Пророком», написанным Пушкиным 8 сентября 1826 года, тотчас после приезда в Москву и блистательного там приема. К «Пророку» примыкает по теме и стихотворение «Поэт», где Пушкин изгоняет всякую красочную библейскую мистику из своего творчества, в которую столь величаво облачен «Пророк». Стихи эти написаны 15 августа в Михайловском.
Пока не требует поэта
К священной жертве Аполлон,
В заботах суетного света
Он малодушно погружен;
Молчит его святая лира;
Душа вкушает хладный сон,
И меж детей ничтожных мира,
Быть может, всех ничтожней он.
Поэтическое творчество, показывает здесь Пушкин, может вспыхнуть, расцвести во всех людях, в каждом из нас, ничем, казалось бы, не выдающихся, «погруженных малодушно в заботы суетного света», может явиться в людях самых, казалось бы, «ничтожных из детей мира», поющих и пляшущих на могилках на семике в Марьиной роще. Поэты скромно живут в гуще человеческих толп, неизвестные, неразличимые. Им всем должно быть уделено внимание, обеспечена возможность выявиться в свободе песни, слова, пляски. Поэзия ходит по земле, она разлита всюду — «от ямщика до первого поэта».
Но лишь божественный глагол
До слуха чуткого коснется,
Душа поэта встрепенется,
Как пробудившийся орел.
Тоскует он в забавах мира,
Людской чуждается молвы,
К ногам народного кумира
Не клонит гордой головы…
И для того, чтобы сохранить явившуюся, открывшуюся ему ясность пророческого прозрения в его сердце,
Бежит он, дикий и суровый,
И звуков и смятенья полн,
На берега пустынных волн,
В широкошумные дубровы…
В конце того же плодотворного, полного поисков лета 1827 года Пушкин прямо обращается к истории движущейся. Из-под его пера рождаются первые главы исторического романа, оставшегося незаконченным, так и не получившего от автора заглавия и уже в посмертном издании наименованного «Арап Петра Великого». ^
Уже давно Пушкин советовал своему другу Рылееву поставить в его «Думу» о Петре «нашего дедушку — Ганнибала»: «его арапская рожа» произведет-де эффект в картине Полтавской битвы». И в этих неоконченных исторических главах главный герой — царский арап Ганнибал. Детали биографии этого абиссинца очень высокого происхождения Пушкин получил тогда лично от своего двоюродного деда — сына «арапа» — генерала Петра Ганнибала, в глубокой старости доживавшего свой век неподалеку от Михайловского, в поместье Петровском.
Эти отрывки, по существу, первые опыты пушкинской большой прозы. В историческую основу их положены многие темы достойного восхищения творенья купца И. И. Голикова, страстного поклонника Петра. Его «Деяния Петра Великого» были открыты Пушкиным вместе с Кораном в благодетельной библиотеке Тригорского. Незавершенные главы эти ослепляют яркостью исторического видения поэта. Начиная с эпиграфа из Н. М. Языкова, здесь все бьет в одну точку:
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: