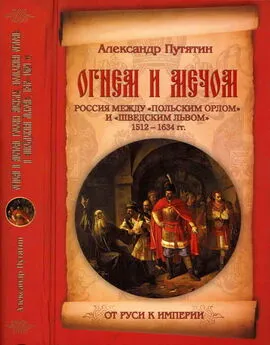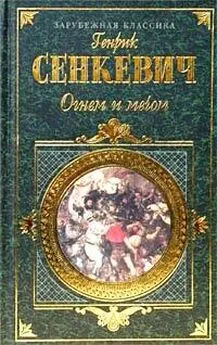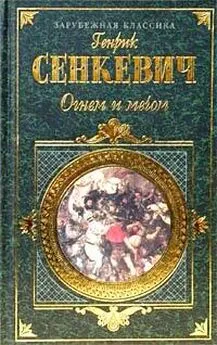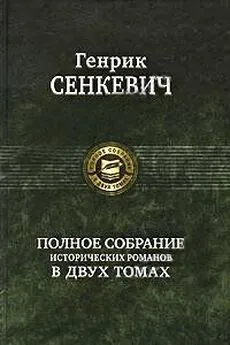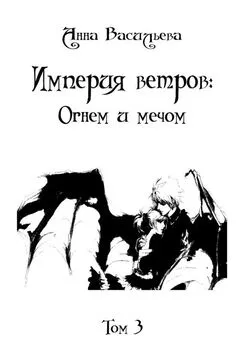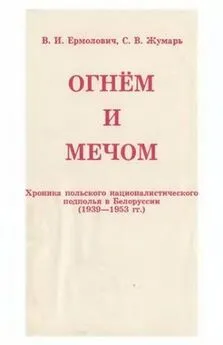Александр Путятин - Огнем и мечом. Россия между «польским орлом» и «шведским львом». 1512-1634 гг.
- Название:Огнем и мечом. Россия между «польским орлом» и «шведским львом». 1512-1634 гг.
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Вече
- Год:2014
- Город:М.
- ISBN:978-5-4444-2128-4
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Александр Путятин - Огнем и мечом. Россия между «польским орлом» и «шведским львом». 1512-1634 гг. краткое содержание
В книге «Огнем и мечом. Россия между “польским орлом” и “шведским львом”. 1512—1634 гг. Александр Путятин описывает события судьбоносного для нашей страны периода, который на века определил ее место в мировой истории.
Смоленские походы Василия III, Ливонская война Ивана Грозного, борьба русского народа против польско-литовских оккупантов во времена Смуты, неудачный поход Михаила Шеина — предстают перед читателями в форме единого вооруженного конфликта, длившегося более века великой войны, в которой Россия отстояла свою независимость и навсегда покончила с мечтами польско-литовского союза о гегемонии в Восточной Европе.
Огнем и мечом. Россия между «польским орлом» и «шведским львом». 1512-1634 гг. - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
А пока боярам главным казался опустевший трон. Оспаривать право на высшую власть стали многие знатные лица. Первыми заговорили о своем кандидате сторонники Василия Голицына. Этот хитрый интриган давно уже тянул руки к московской короне. В свое время князь Василий Васильевич играл ведущие роли в расправах над Федором Годуновым и Лжедмитрием I. Одну попытку свергнуть Шуйского Голицыну сорвал Гермоген, зато вторая удалась на славу. Правда, дальше дело застопорилось… Еще в первый день переворота, 17 июля, Захар Ляпунов и его сторонники стали «в голос говорить, чтобы князя Василия Голицына на государстве поставить» {126} 126 Скрынников Р.Г. Царь Василий Шуйский. М., 2002. С. 374.
. Но агитация не имела успеха. В Думе были и другие Гедиминовичи, претендовавшие на престол. Глава ее, Федор Мстиславский, не соглашался уступить корону Голицыным. Сходной позиции придерживался и князь Воротынский. Чтобы не подпустить к трону никого из конкурентов, эти двое готовы были призвать на царство Владислава. Вскоре в борьбу с Голицыным вступил еще один претендент. Филарет Романов, будучи духовным лицом, не мог рассчитывать на корону, но он выдвинул кандидатом сына Михаила. В глазах многих людей юный Романов имел наибольшие права на трон. Как-никак, а двоюродный племянник Федора Иоанновича, последнего законного царя из династии Калиты.
Таким образом, лидеры определились быстро. Самым перспективным из них сразу же стал Владислав. За интересы юного Сигизмундовича готова была сражаться подходившая к Москве армия Жолкевского. Королевичу присягнули ратники Валуева. Его кандидатуру поддержали лидеры Боярской думы: Мстиславский и Воротынский. Второе-третье место разделили Гедиминович Василий Голицын и сын лидера старомосковского боярства Михаил Романов. Суздальская знать после свержения Шуйских не смогла выдвинуть достойного кандидата, а представители опричных родов дискредитировали себя службой у самозванца.
Избирательная кампания продолжалась недолго. Главной претензией к предыдущему монарху была келейность его избрания. А потому бояре вскоре пришли к выводу, что голосовать за нового царя следует «всем заодин всею землею, сослався со всеми городы» {127} 127 Скрынников Р.Г. Три Лжедмитрия. М., 2003. С. 437.
. Вряд ли это стало действительной причиной, по которой Дума отложила выборы. В верхах общества не было единства. Боярские лидеры Мстиславский и Воротынский держали сторону Владислава, в то время как глава Освященного собора Гермоген агитировал за русских кандидатов: Голицына и Романова. В результате сошлись на том, что до проведения «правильных» выборов Дума создаст особую комиссию по управлению страной. Во главе ее встал боярин Федор Мстиславский. Кроме руководителя Думы туда вошли Иван Воротынский, Василий Голицын, Иван Романов, Федор Шереметев, Андрей Трубецкой и Борис Лыков. Так появилась печально знаменитая Семибоярщина, вскоре запятнавшая себя предательством интересов народа.
Активная позиция в начале выборной кампании стала первым по-настоящему самостоятельным политическим актом Гермогена. А потому имеет смысл подробно остановиться на анализе действий патриарха. Зачем он выдвинул сразу двух кандидатов? Кого Гермоген хотел видеть на троне на самом деле? И был ли такой претендент в тройке лидеров? Чтобы ответить на эти вопросы, нам придется внимательно присмотреться к московскому патриарху, ознакомиться с историей его жизни, попытаться понять уровень знаний и систему мотивировок, составить впечатление о деловых и душевных качествах этого незаурядного человека.
О ранних годах жизни Гермогена известно немного. Даже дату рождения мы знаем приблизительно — 1530 год. Поляки считали, что священник Ермолай (так звали его до пострижения в монахи) происходил из донских казаков, русские историки то выводили Гермогена из городского духовенства, то причисляли к роду Шуйских или Голицыных. Такое обилие гипотез ясно показывает, что о первых 48 годах жизни одного из виднейших деятелей русской истории мы не знаем практически ничего, кроме его мирского имени. Первое значимое событие в жизни будущего патриарха произошло лишь в 1579 году в Казани. Приходской священник церкви Святого Николая в Гостином дворе участвовал в обретении одной из величайших православных святынь — иконы Казанской Божьей Матери. Если верить легендам, именно будущий патриарх написал тогда же краткий вариант «Сказания о явлении иконы и чудесах ее», отправленный духовенством Ивану Грозному. Многие историки считают, что и сам Ермолай в это время переехал в Москву, где в 1587 году, уже после смерти супруги, принял постриг в Чудовом монастыре. Как это часто бывало с талантливыми приходскими священниками, переход к иноческой жизни привел к резкому взлету карьеры Гермогена. В 1588 году он стал игуменом, а затем архимандритом Спасо-Преображенского монастыря. Но это было лишь началом стремительного возвышения скромного монаха. 13 мая 1589 года патриарх Иов возвел Гермогена в сан епископа и практически сразу же поставил его руководить новоучрежденной Казанской митрополией.
Не побоюсь сказать, что работа, доставшаяся Гермогену, была на тот момент самой сложной и ответственной в Русской церкви. Фактически его назначили на передовой рубеж, где предстояла тяжелая борьба за обращение в христианство множества разноверных племен: мордвы, мари, чувашей, татар и других. Причем русскому митрополиту приходилось решать более сложные задачи, чем его католическим и протестантским собратьям в Америке и Африке. Ведь на востоке России существенно иным был характер взаимодействия христиан с местным населением. Европейцы фактически не признавали «дикарей» людьми и хладнокровно истребляли всех, кто посмел перечить «белым господам». Русские, в отличие от них, считали аборигенов равными себе. А потому даже в мыслях не держали возможности беспощадного уничтожения соседей.
Свою роль сыграло и то, что во многих отношениях уровень развития Казанской и Астраханской земель не уступал московскому. Конечно, их жителям было чему поучиться у русских. Новые методы хозяйствования помогали поднимать экономику края. Но и переселенцы обнаруживали у местного населения массу полезных навыков, ремесленных приемов и обычаев, которые не грех было перенять. Такой же взаимный характер носило и религиозное общение. Паства нового митрополита оказалась вкраплена отдельными островками в гущу иноверного служилого и податного населения. Многие новокрещенцы, быстро осознав, что переход в православие не дает им никаких привилегий, принялись отклоняться к прежним обычаям и верованиям.
Не лучше обстояли дела и в русских общинах. Это только в летописях дело представляется так, будто переселенцы больше заботились о душе, чем о бренном теле. Якобы, придя на новое место, они начинали дело со строительства и освящения храма. На практике же буйные казачьи ватаги в своих скитаниях чаще полагались на сабли и пищали, чем на святой крест. Даже мирные земледельцы, уходя с насиженных мест в леса и степи Поволжья, в Приуралье и за Урал, грузили на телеги серпы и сохи, мешки с домашним скарбом и семенами, но не церковную утварь. В этих условиях митрополиту пришлось начинать работу не с пламенной агитации в иноверческой среде, а с действий охранительных и оборонительных. Понимая, что многие прихожане от старой веры уже отстали, а в новой еще не утвердились, Гермоген на первом этапе сосредоточил основные усилия на поучениях, терпеливо внушая им правила жизни в христианской общине. При этом он действовал исключительно позитивными методами, как бы и не замечая наличия вокруг христиан целого моря иноверцев.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: