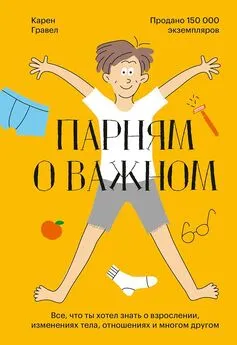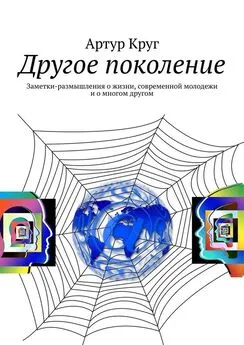Михаил Гаспаров - Рассказы Геродота о греко-персидских войнах и еще о многом другом
- Название:Рассказы Геродота о греко-персидских войнах и еще о многом другом
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Согласие
- Год:2001
- Город:Москва
- ISBN:5-86884-125-5
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Михаил Гаспаров - Рассказы Геродота о греко-персидских войнах и еще о многом другом краткое содержание
До сих пор труд Геродота считался только источником исторических сведений, однако академик М. Л. Гаспаров утверждает, что Геродот интересен, в первую очередь, как писатель. Стремясь устранить недостатки ранее существовавших русских переводов, Гаспаров предлагает читателям не перевод, а пересказ, рассчитанный на восприятие читателя-неспециалиста.
Этот пересказ истории Геродота академик М. Л. Гаспаров сделал, представляя себе, что пишет для школьников «так, как хотел бы рассказывать об этом собственным детям». В предисловии к книге он напоминает о том, что Геродота всегда переводили не как писателя, а как источник сведений о Древней Греции — на деловой канцелярский стиль. «Это было не совсем справедливо. Мне захотелось поправить эту несправедливость. Это значило: предложить русским читателям не перевод, а пересказ Геродота».
Девять книг, из которых в древности состояло сочинение Геродота, стали десятью рассказами (первая книга была разделена на две). М. Л. Гаспаров пишет, что можно было бы сохранить геродотовский нанизывающий синтаксис и старинный язык, но тогда его пересказ был бы похож на русскую прозу XVIII века, что было бы непривычно и утомительно для читателя. «И тогда я предпочел противоположную крайность: переложить Геродота не только с языка на язык, но и со стиля на стиль». Фразы Геродота стали короткими, легкими, немного ироничными. М. Л. Гаспаров призывает «не притворяться, будто мы с читателем вживаемся в образ Геродота-повествователя, а представить себе, что мы любуемся им со стороны, сохраняя собственный взгляд и на него, и на предметы его повествования».
Геродот из Галикарнаса жил в V веке до н. э. Отец истории, географии и этнографии предупреждал: «Я обязан передавать все то, что мне рассказывают, но верить всему не обязан, и это пусть относится ко всему моему труду». И от него мы узнаем, что говорили об исторических событиях на улицах и на полях сражений в его время. Мир, каким видел его Геродот, был миром обычных людей, его современников, эллинов и варваров. Аристократы и простолюдины, жрецы Дельфов и жрицы Додоны, ремесленники и торговцы — самые разнообразные категории людей встречались ему на родине и на чужбине во время его продолжительных путешествий, делились с ним воспоминаниями и впечатлениями. И сам Геродот был похож на них — любознательный и общительный, истинный сын своей эпохи и своего народа.
В пересказе М. Л. Гаспарова сохранены черты народной сказки, характерные для многих рассказов Геродота, веселые сцены чередуются с мрачными происшествиями, рассказывается об удивительных, поражающих воображение событиях, о героизме и трусости, о коварстве и простодушии…
«Геродот был слишком умным человеком, чтобы верить, будто боги обращаются в быков, а царские дочери — в коров. Но он был слишком осторожным человеком, чтобы открыто сказать, что это только сказка, — пишет М. Л. Гаспаров и рассказывает, как качался маятник войны между греками и азиатами. Причины долгих и изнурительных войн греков с варварами — это взаимные обиды, чуть ли не поочередные похищения царских дочерей (Ио и Европы, Медеи и Елены). Геродот представил человеческую историю как развивающийся во времени и пространстве процесс, в ходе которого меняются судьбы людей и государств: „Ведь те, что были великие в древности, в большинстве стали незначительными ныне и, напротив, те, которые при мне стали большими, прежде были малыми“».
Прочитав книгу М. Л. Гаспарова о рассказах Геродота, невольно задумаешься об этом «маятнике войны», качающемся со времен сказочного далека — от царевны Ио и царевны Европы, времен греко-персидских войн и походов Александра Македонского, крестовых походов и турецких нашествий до мировых войн XX века.
«А теперь задумаемся не о самих событиях, а об их смысле, — заканчивает пересказ истории Геродота М. Л. Гаспаров. — В самом начале повествования Геродота мудрец Солон говорит царю Крезу: „Не превозносись: чем выше возносится человек, тем сокрушительней бывает его падение. Мера — превыше всего: не отступай от меры“. Потом по ходу действия Геродот пользуется каждым случаем, чтобы еще и еще напоминать об этом. Но главное подтверждение мудрости Солона — сама история греко-персидских войн. Царь Ксеркс вознесся выше меры (как устрашающе описывались его полчища!) — и вот вся его мощь рушится от разгрома при Саламине. Однако достаточно ли этого примера? Нет, победители-греки на нем ничему не научились. Афиняне сами возгордились своей победой свыше меры, пошли всею силою на персов в Египет и всею силою потерпели крушение. Лишь когда обе стороны были наказаны судьбой за нарушение меры, положенной человеку, стал возможен мир и конец войны».
Рассказы Геродота о греко-персидских войнах и еще о многом другом - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Греки устроили совет. Здесь было двенадцать человек — двенадцать тиранов из двенадцати городов со своими отрядами. Среди них было двое, которые будут героями наших следующих рассказов: афинянин Мильтиад, тиран Херсонеса (что на Геллеспонте), и ионянин Гистией, тиран Милета.
Мильтиад сказал: «Сделаем то, о чем сказали скифы. Царь погибнет, персидская власть ослабнет, и наши города снова будут свободными».
Гистией сказал: «Нет. Царская власть падет, но падет и наша власть: города будут свободными, и ни один из них не захочет терпеть над собой тирана. Наша опора — в персах, будем ожидать царя».
Двенадцать вождей согласились с Гистиеем. Решили сделать вот что: часть моста со стороны скифов разрушить, а остальную часть оставить. Тогда и скифы поверят, что греки заодно с ними, и царь убедится, что греки верны ему.
Прошло немного дней, и из глубины степи на берег Дуная потянулось поределое царское войско. Оно с трудом ускользнуло от преследования скифов. Когда передовые воины вышли к берегу, была ночь. Мост искали ощупью, при свете факелов, по колено в воде. Моста не было. Началось смятение. Каждый понимал: если греки ушли, разрушив мост, то отступать дальше некуда: завтра нагрянут скифы, и все будет кончено.
Персов спас громкий голос одного человека. В свите Дария был египтянин, умевший кричать, как никто. Он встал на краю берега, приложил руки ко рту и громовым голосом крикнул: «Гистией! Гистией! Гистией!» Его голос перелетел бескрайний Дунай и донесся до греческого берега. Его услыхали. Вспыхнули огни, забегали люди, лодка с Гистиеем поплыла навстречу царю. На следующий день мост был восстановлен, и остатки Дариева войска, изможденные и оборванные, покинули скифскую землю. Скифы, верхом на конях, смотрели на это с окрестных холмов. «Если ионяне свободные люди, то нет людей их трусливее; если ионяне рабы, то нет рабов их преданнее», — сказали скифы.
Так кончился поход Дария на скифов. Царь не стал задерживаться в Европе. Он переправился через Боспор и поскакал в свою столицу, в Сузы. На европейском берегу он оставил своего друга Мегабаза с войском: держать в покорности землю по сю сторону Дуная.
Как Мегабаз доделывал то, чего недоделал Дарий
Земли по сю сторону Дуная — это были три области: Фракия, Пеония, Македония. Дарий по пути в Скифию оставил их непокоренными. Покорять их пришлось Мегабазу.
Мегабаз был хороший полководец и преданный Дарию друг. Однажды царь Дарий ел гранат. Его брат спросил его: «Чего бы ты хотел иметь столько же, сколько зернышек в гранате?» Дарий ответил: «Таких друзей, как Мегабаз».
«Фракийский народ после индийского самый многолюдный на земле, — пишет Геродот, — Если бы этот народ находился под единым правителем или если бы фракийцы жили в согласии между собой, то, по моему мнению, одолеть их было бы невозможно. Но жить в согласии они не умеют вовсе, и через то самое они бессильны». Вот почему Мегабаз покорил фракийцев, как они ни были воинственны, без большого труда.
У фракийцев есть странные обычаи. Другие народы радуются рождению детей и оплакивают смерть стариков. Фракийцы — наоборот. Вокруг новорожденного садится вся семья и плачет о том, сколько несчастий придется ему перенести в жизни. А вокруг умирающего радуются, веселятся и поздравляют его с тем, что он избавляется, наконец, от жизненных бед.
Каждый день своей жизни фракиец отмечает камешком: счастливый день — белым, несчастный — черным. Когда он умирает, эту груду камешков разбирают, подсчитывают черные и белые и решают, был ли покойник человеком счастливым или несчастным. «Чудаки! — замечает об этом один древний писатель, — Откуда они знают, не был ли день, который они считают счастливым, началом многих будущих несчастий?»
За Фракией лежала Пеония. О пеонах рассказывают, что они однажды удивительным образом победили жителей соседнего греческого города. Пеоны спросили оракул, нападать ли им на греков? Оракул ответил: «Если враг позовет вас по имени — нападайте, если нет — не нападайте». Пеоны вызвали греков на три поединка: человек с человеком, конь с конем, собака с собакой. Остальные стояли и смотрели: пеоны с одной стороны, греки с другой. Уже греческая собака загрызла вражескую и греческий конь побил вражеского. Радостные греки запели пеан Аполлону. Пеан — это хвалебная песнь, а припев в ней — старинные слова, которых не понимали сами греки: «Иэ, пэан, иэ, пэан, иэ, пэан!» Пеонам послышалось в этом припеве имя своего народа; они переглянулись и, решив, что исполнилось указание оракула, ударили на ничего не ожидавших греков. Так одержали они победу.
В Сардах жили два брата пеона, у них была сестра. Однажды они послали сестру по воду в то самое время, когда на площади правил суд царь Дарий. Девушка шла и делала разом три дела: вела коня на водопой, несла кувшин на голове и пряла лен, вращая руками веретено. Дарий изумился: он не привык видеть таких трудолюбивых женщин. Он призвал к себе ее братьев и спросил: «Все ли у вас в стране так трудолюбивы?» Братья ответили: «Все». Тогда Дарий послал приказ Мегабазу: страну пеонов покорить, а народ пеонов переселить в Азию, чтобы азиатские народы учились у них трудолюбию. Мегабаз выполнил все, что было приказано.
За Пеонией лежала Македония. Это был уже народ почти греческий, а цари в нем считали себя настоящими греками. О себе они рассказывали так. Некогда из Греции бежали в Македонию три брата-подростка и нанялись в пастухи к тогдашнему македонскому царю. Старший пас лошадей, средний — быков, а младший, которого звали Пердикка, — овец. Времена тогда были простые, и царская жена сама пекла для пастухов хлеб. Вдруг она стала замечать, что кусок, который она отрезала Пердикке, всякий раз сам собой увеличивался вдвое. Она сказала об этом царю. Царь встревожился и решил пастухов прогнать. Юноши потребовали заработанных денег. Царь пришел в ярость, показал на солнце и крикнул: «Вот вам плата!» Времена были бедные, царское жилище было простой избой без окон, солнечные лучи скупо проникали в нее через дымовую трубу и светлым пятном лежали на земляном полу. Старшие братья стояли, изумленные, а Пердикка сделал шаг вперед, наклонился, очертил ножом солнечный свет на земле, сказал: «Спасибо, царь», трижды зачерпнул ладонью солнца себе за пазуху, повернулся и вышел. За ним то же сделали и братья. Когда царь опомнился, он послал за ними погоню. На пути была река. Она разлилась и остановила погоню. Братья нашли за рекою приют у соседнего племени, а когда возмужали, то вернулись и отбили у царя македонское царство. Их потомками и были все позднейшие македонские цари; и все эти цари чтят и приносят жертвы той реке, которая своим разливом спасла от гибели трех братьев-пастухов.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:


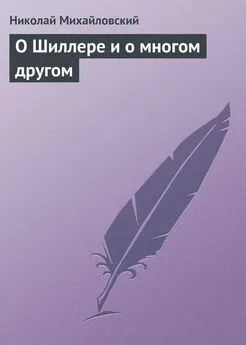
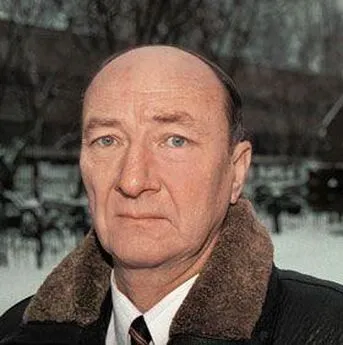
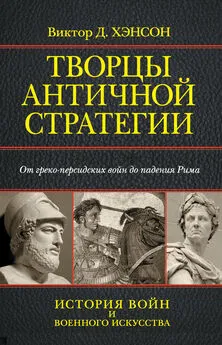
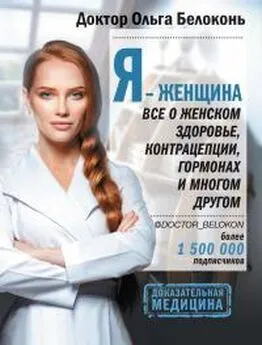
![Ревекка Рубинштейн - За что Ксеркс высек море [Рассказы из истории греко-персидских войн]](/books/1077388/revekka-rubinshtejn-za-chto-kserks-vysek-more-rasskazy-iz-istorii-greko-persidskih-vojn.webp)