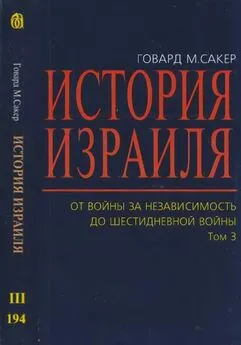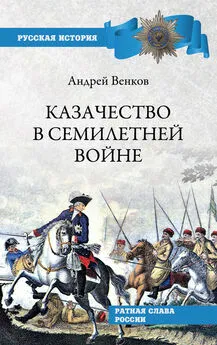Альфред Рамбо - Русские и пруссаки. История Семилетней войны
- Название:Русские и пруссаки. История Семилетней войны
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Воениздат
- Год:2004
- Город:Москва
- ISBN:5—203—01929—0
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Альфред Рамбо - Русские и пруссаки. История Семилетней войны краткое содержание
Впервые в России на русском языке издается труд известного историка и литератора Альфреда Рамбо (1842–1905), написанный в далеком теперь 1895 году. Автор, опираясь на многочисленные документальные источники, достаточно подробно освещает все крупные сражения Семилетней войны 1756–1763 гг., в которых участвовала русская армия. Он справедливо отмечает, что кампании русской армии в эту войну можно считать великой военной школой XVIII столетия.
Русские и пруссаки. История Семилетней войны - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Несколько полезнее оказалось городское ополчение. В Кёнигсберге все горожане были разделены на две категории: регулярных и резерв. Из первой составилось десять рот общей численностью 3 тыс. чел. и один эскадрон (150 чел.). Пехотинцы получили вместо ружей мушкеты. Кавалеристы, набранные из мясников, пивоваров, лавочников и извозчиков, были вооружены саблями и пистолетами. Это оружие поставлялось королевскими или городскими арсеналами или же подлежало реквизиции у местных жителей. Что касается резерва, куда входили «все способные двигаться», то там приходилось довольствоваться шпагами, косами, вилами, а подчас и кочергами. Добавим к этому, что далеко не всем игра в солдаты доставляла удовольствие. Университет, типографии, издательства, учителя танцев, городское дворянство, королевские чиновники, духовенство, адвокаты, то есть все пользовавшиеся привилегиями, подали жалобы. Одних под благовидным предлогом удовлетворили, другим же пригрозили штрафами и даже тюрьмой. Жителям раздавали оружие и в некоторых незащищенных городах, как, например, в Тильзите.
Во всей Восточной Пруссии было всего три крепости: Пиллау, Мемель и Кёнигсберг — и укрепленный мост в Мариенвердере на Висле, вооруженный двумя старыми железными пушками при двух отставных солдатах. Сколько-нибудь важное значение имел только Кёнигсберг, защищенный непрерывным поясом укреплений с 32 бастионами, цитаделью и отдельным фортом Фридрихсбург. Левальд едва успел привести в порядок лишь эту крепость, на две другие у него не оставалось времени.
Напрасно пытался он использовать все доступные средства — складывавшаяся ситуация не предвещала ничего хорошего. Вместо подкреплений король мог помочь только ценными советами, да еще тем, что облек его неограниченной диктаторской властью над всей провинцией, предписав никогда не собирать военный совет.
Наконец, уже избавившись от своих политических иллюзий, Фридрих повелел Левальду произвести мобилизацию всех войск ввиду неизбежного, по полученным достоверным сведениям, русского вторжения. В заключение он писал: «Я полагаюсь на вашу осмотрительность, опыт и разумные решения, однако вы не должны ни щадить русских, ни вступать с ними в переговоры (nicht schonen, noch marchandireri)… Если они вторгнутся в Пруссию, без промедления вцепляйтесь им в загривок и хорошенько отлупите их. …Я припоминаю, что фельдмаршал Кейт почитал наилучшим в качестве доброй пощечины начинать с кавалерийской атаки на их фланги и, опрокинув оные, пробивать в каком-либо месте пехотное каре, после чего все и будет покончено, поелику они придут тогда в совершенное замешательство и останется лишь взять как можно больше пленных и отправить к неприятельскому командующему барабанщика с предложением присылать парламентеров и деньги на содержание пленных…» [44] Politische Korrespondenz. Bd. 14. S. 245–246.
.
Таким образом, Левальду оставалось только позаботиться о будущих пленных. И когда он в соответствии с приказом короля двинулся к границе, то оставил губернатору Кёнигсберга полковнику Путкаммеру инструкции, которые при всей осмотрительности и разумности были исполнены презрения к русской армии, особенно к ее нерегулярным войскам: «Хотя, по всей очевидности, у Кёнигсберга могут появиться только калмыки, казаки и прочие, подобные им, г-ну полковнику надлежит принять такие же меры, как если бы на их месте были те, кто может отважиться на штурм города… Необходимо также требовать от господ офицеров постоянной бдительности и понимания того, что даже двадцать человек, если они исполняют свой долг, могут не бояться тысячи казаков». Одновременно он поручил нескольким курляндским офицерам, состоявшим на прусской службе, и среди них графу Дона и генералу Лоттуму, переодевшись, побывать на русских квартирах и доставить ему точные сведения о передвижении неприятеля.
В апреле 1757 г. Апраксин перешел Двину и произвел в своей главной рижской квартире общий смотр войскам. На этот воинский праздник он пригласил дам и все высшее общество — городские стены, окна и даже крыши домов были переполнены зрителями. Под всеобщие приветствия полки промаршировали стройными рядами. Проходя, офицеры салютовали шпагами, знамена склонялись. На всех солдатах были аккуратные мундиры, сверкало начищенное до блеска оружие и снаряжение. Поверх шляп красовались зеленые ветки, а на головах гренадер покачивались пучки перьев. «Великолепное зрелище» — так отозвался об этом смотре начинавший свою военную карьеру поручик Архангелогородского полка Болотов.
В мае Апраксин «для прикрытия магазинов» занял Ковно на Немане, а русский авангард Броуна (15 тыс. чел.) — Митаву. Лопухин и основная часть армии (32 тыс. чел.) сосредоточились вокруг Риги. Румянцев с 4 тыс. кавалерии перешел Двину у Динабурга. Салтыков командовал «десантным отрядом» в Ревеле (10 тыс. чел.), который морем должен был отправиться к берегам Пруссии. Еще 17,5 тыс. чел. задерживались у Дерпта и Пскова. Генерал-майор Кастюрин, бригадир Краснощеков, майоры Гаке и Суворов еще только подходили к Вильне. Если не считать нерегулярных войск, то вся эта масса вследствие множества impedimenta [45] Препятствий (лат.).
двигалась довольно медленно — не более 10–12 км в день. Уже начали чувствоваться все затруднения со снабжением такой армии в подобной стране; недостаток скота восполнился ожидавшимся из Украины только в сентябре. Кроме того, в это время полагалось соблюдать пост, и на маршах это истощало людей. Апраксин писал в Конференцию: «Правда, указом блаженной и вечно достойной памяти императора Петра Великого повелевается солдат в том случае (во время похода. — Д.М.) в пост мясо есть заставлять, но я собою силу этого указа в действо привести не дерзаю <���…>, но нужно для их выздоровления сей способ употребить, ибо в сей земле ни луку , ни чесноку найти нельзя, а солдаты в постные дни тем и питаются» [46] Масловский. Вып. 1. С. 203.
. Как видим, даже по такому второстепенному делу главнокомандующий должен был сноситься с Конференцией. Эта последняя передала его донесение на усмотрение императрицы, которая переадресовала его Святейшему Синоду. Синод дал свое согласие, но оно прибыло лишь после Петровского поста, в июне 1757 г.
Только 23 июня левое крыло русской армии, составлявшее ее авангард, под командованием Фермора выступило из Полангена и перешло прусскую границу. 30-го оно сосредоточилось у Мемеля. Почти одновременно появилась и эскадра Вальронда, состоявшая из шести судов с бомбардирскими орудиями.
Появление длинных донских пик уже вызвало панику среди прусского населения. Несмотря на призывы Апраксина щадить мирных жителей, донцы повсюду грабили скот, лошадей и даже уводили людей. Крестьяне со своими стадами прятались в лесах, а чиновники, забрав документы, укрылись в Мемеле. Эта крепость с обветшалыми укреплениями имела 80 разнокалиберных орудий, ее гарнизон состоял всего из одного батальона.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
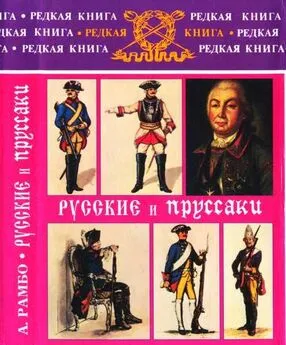
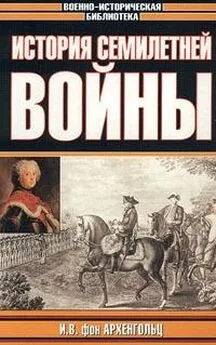
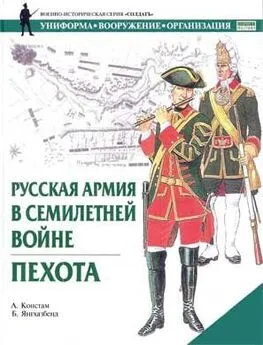
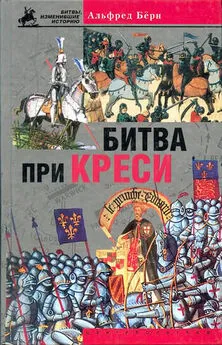
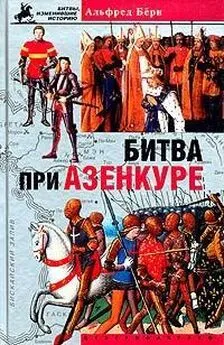
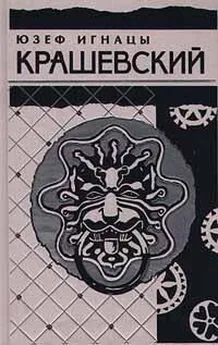
![Коллектив авторов История - История гражданской войны в СССР. Том 1 [Подготовка Великой пролетарской революции (от начала войны до начала октября 1917 г.)]](/books/1087588/kollektiv-avtorov-istoriya-istoriya-grazhdanskoj-vojn.webp)