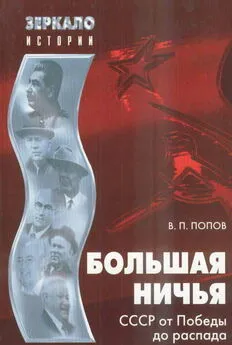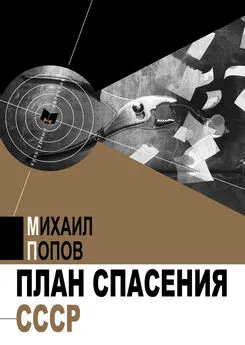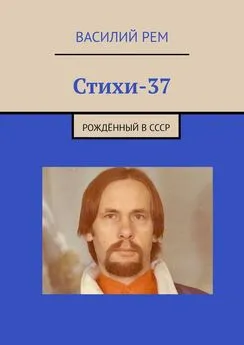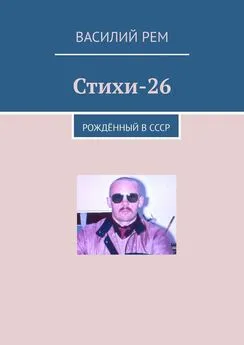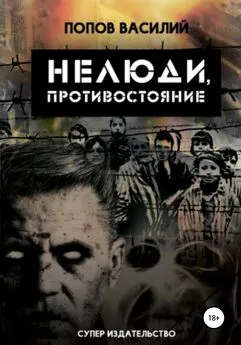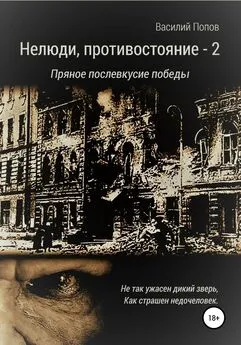Василий Попов - Большая ничья. СССР от Победы до распада
- Название:Большая ничья. СССР от Победы до распада
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:НЦ ЭНАС
- Год:2005
- Город:М.
- ISBN:5-93196-544-0
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Василий Попов - Большая ничья. СССР от Победы до распада краткое содержание
В книге рассмотрены самые полемические вопросы, по которым среди историков не прекращаются острые споры. Автор дает глубокий сопоставительный анализ российских (в том числе советских) и зарубежных публикаций об исторических событиях и исторических личностях второй половины XX века.
Для широкого круга читателей.
Большая ничья. СССР от Победы до распада - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Реформа закончилась неудачей, поскольку, считал Согрин, партийное руководство «смертельно испугалось» возможности сужения экономического и политического «всевластия КПСС» {297} 297 См.: Согрин В. В. Уроки российской истории и современные реформы // Вопросы философии. 2003. № 11. С. 3-23.
.
Один из сторонников теории модернизации Е.И. Пивовар обращал внимание на то обстоятельство, что процесс глобализации, который охватил СССР в 60–80-е гг. XX столетия, оказал не менее серьезное воздействие на результаты «советского эксперимента», чем «ошибки, просчеты, слабости» послесталинского руководства. Он отметил, что советское общество в рассматриваемый период переживало качественно новый этап урбанизации, связанный с преобладающим ростом городского населения и резким повышением образовательного уровня в стране. В то же время предшествующий этап индустриализации в СССР «не был завершен», а высокие технологии господствовали только в военно-промышленном комплексе. Одновременно с качественным изменением социальной структуры страны росла «тяга широких слоев общества к массовому потреблению», но советская экономика не могла удовлетворить эти требования, поскольку существовала в условиях «всеобщего дефицита». В результате произошло «разочарование» среднего класса Советского Союза в советской системе {298} 298 См.: Россия в XX веке: Реформы и революции. М., 2002. Т. 2. С. 371—374.
.
Некоторые ученые, сторонники феномена цикличности, объясняли застойные явления 60–80-х гг. преобладанием контрреформаторской тенденции в развитии экономики и общества СССР.
Так, по мнению В.Т. Рязанова, в отечественной истории с XVIII в. и до XX в. включительно периоды реформ сменялись контрреформами. В предшествующий брежневскому реформистский период Хрущева в народном хозяйстве СССР завершилось оформление современного комплекса отраслей, связанных с научно-технической революцией (в первую очередь освоение космоса и выпуск сложной оборонной техники). Помимо этого выросли реальные доходы населения и этот рост продолжался и в брежневские времена. Фактически заново были созданы отрасли, работающие на потребительский рынок, — электробытовая техника, массовое жилищное строительство, автомобилестроение и пр. Рязанов объяснял это практической реализацией курса на «экономическую заинтересованность хозяйствующих субъектов». Что же помешало развиться реформистским тенденциям в брежневские годы? По мнению Рязанова, таких причин контрреформ было несколько. Одни лежали в экономической плоскости, другие — в политической. В первую очередь ни социалистическая теория, ни соответствующая ей практика не смогли ответить на главный вопрос: как совместить экономическую заинтересованность производственных коллективов в получении прибыли с их экономической ответственностью в условиях государственной собственности. Не был также найден эффективный экономический механизм, позволяющий государству бороться с инфляцией, дефицитом, сокрытием внутренних резервов. Вторая важнейшая причина — на военные нужды в СССР, по экспертным оценкам, тратилось до 20% ВНП, тогда как в США вдвое меньше. Последствия гонки вооружений для экономики Советского Союза и уровня жизни населения страны оказались более тяжелыми и долговременными, чем для США {299} 299 См.: Рязанов В. Т. Экономическое развитие России: Реформы и российское хозяйство в XIX-XX вв. СПб., 1998. С. 49-54.
.
Однако далеко не все разделяют вышеприведенную точку зрения. Так, по мнению Е.Т. Гайдара, именно в брежневский период наиболее остро проявились «болезненные долгосрочные последствия реализации избранной социалистической модели индустриализации», а открытие в Западной Сибири огромных месторождений нефти и газа и резкий рост мировых цен на эти природные ресурсы только «отсрочили крах социализма». Сказался также и «консерватизм политической и хозяйственной элиты» страны, мало способной воспринимать нововведения научно-технической революции. По мнению Гайдара, в рассматриваемый период социалистическая советская экономика характеризовалась как «внутренне неустойчивая» и не была способна выйти из этого кризисного состояния {300} 300 См.: Экономика переходного периода: Очерки экономической политики посткоммунистической России. 1991-1997. Под ред. Е. Гайдара. М., 1998. С. 46-51.
.
По мнению философа А.А. Зиновьева, брежневский период явился «продолжением хрущевского, но без крайностей переходного характера». Не консервативный аппарат помешал Хрущеву осуществить перестройку советского общества, подчеркивал Зиновьев. Наоборот, аппарат помешал Хрущеву воплотить в жизнь «сталинские амбиции и рецидивы», поэтому и в брежневские годы советскому руководству удалось сохранить главное — итоги десталинизации страны, которые он направил по пути «нормальной (для этого типа общества) эволюции зрелого социального организма». Это реальное коммунистическое общество, согласно Зиновьеву, имело гораздо больше достижений, чем хрущевский и тем более сталинский периоды, и именно благодаря успехам «недостатки стали занимать больше места в сознании людей». Сам же реальный коммунизм достиг «завершенной формы», которая являлась прозаической и заурядной, — «царством серости, бездарности, скуки, лжи, насилия и прочих уже общеизвестных явлений». По этой же причине, замечал Зиновьев, культ Брежнева был не культом «личности», а «культом правящей мафии, которую он лишь символизировал». Системный кризис, охвативший в 70-е гг. все советское общество, являлся, по мнению Зиновьева, «неизбежным следствием внутренних закономерностей коммунизма». В первую очередь он поразил сферу идеологии, поскольку советские люди поняли, что «то, что они сейчас имеют, и есть настоящий коммунизм». Следовательно, по их мнению, вся идеологическая надстройка нашего общества была лишь «жульнической маскировкой» неприглядной советской реальности. Этим, по его мнению, советский кризис принципиально отличался от капиталистических кризисов на Западе, которые прежде всего поражали сферу экономики {301} 301 См.: Зиновьев А. А. Русская судьба, исповедь отщепенца. М., 2000. С. 391—397; 439—443; Зиновьев А., Ортис А. Ф., Кара-Мурза С. Коммунизм. Еврокоммунизм. Советский строй. М., 2000. С. 21-22.
.
Другое крыло отечественной науки, представленное работами М.Я. Геллера, А.М. Некрича, Д.А. Волкогонова, Р.Г. Пихои, убеждено в изначальной нереформируемости советской системы, ее исторической обреченности.
Для Волкогонова, например, советская история — это во многом «длинная цепь преступлений, начатая государственным переворотом в октябре 1917 г.», где «органические изъяны» тоталитарного режима были одновременно и выражением его силы, и тем, что предопределило его гибель в ходе горбачевской перестройки. «Попытки реанимировать отжившую систему бесплодны и опасны», — полагал Волкогонов {302} 302 См.: Волкогонов Д. Семь вождей: Галерея лидеров СССР. М., 1995. Кн. 2. С. 436—442.
.
Интервал:
Закладка: