Роман Ключник - Сталин - период созидания. Гражданская война в СССР 1929-1933 гг. Том 8.
- Название:Сталин - период созидания. Гражданская война в СССР 1929-1933 гг. Том 8.
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:ООО «СПб СРП Павел ВОГ», 196620, Санкт-Петербург – Павловск, ул. Березовая, 16
- Год:2010
- Город:Санкт-Петербург
- ISBN:978-5-903097-91-3
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Роман Ключник - Сталин - период созидания. Гражданская война в СССР 1929-1933 гг. Том 8. краткое содержание
Автор книг «Лекции президентам по истории, философии и религии», «Ответ Джо Соросу и изучение мудрости» пытается ещё глубже разобраться в истории России, особенно в её трагических периодах, анализирует и суммирует многочисленные современные исследования, стремится показать реальную историю «без припудривания», её малоизвестные важные страницы, реальные исторические процессы и сделать полезные выводы из философии истории для современников и будущих поколений.
Сталин - период созидания. Гражданская война в СССР 1929-1933 гг. Том 8. - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
И Сталин дал отмашку, «добро» своим «янычарам»-комиссарам — и в 1928 году в СССР было закрыто ещё 534 церкви и репрессировали многих священников. Подверглись репрессиям и остатки «старой интеллигенции». Например, академик Д.С. Лихачёв о том прожитом им времени свидетельствовал («Воспоминания», 1999 г.), что весь этот период «воронки» работали не переставая, шли расстрелы, и концлагеря были переполнены, по-прежнему физически истреблялась интеллигенция и православные священники. В январе 1929 года «Правда» опубликовала сообщение об арестах в конце 1928 года знаменитых ученых-историков: Платонова, Тарле, Лютовского, Измайлова, философа Бахтина и др., арестовывали и студентов, заподозренных в антисоветских настроениях, как Д. Лихачева или немного позже Л. Гумилева.
М. Булгаков, наблюдая репрессии, перестраховался и сжег в 1928 году первую редакцию романа «Мастер и Маргарита». К работе над романом о дьяволе он вернулся только в 1932-м. Но за его пьесы «Дни Турбиных», «Зойкина квартира», «Багровый остров» и «Бег» группа бдительных театральных товарищей: В. Билль-Белоцерковский, Б. Рейх и пр. в декабре 1928 года написали кляузу Сталину, что «органы пролетарского контроля над театром фактически бессильны по отношению к таким авторам, как Булгаков. Пример: «Бег», запрещенный нашей цензурой, и все-таки прорвавший этот запрет!, в то время, как все прочие авторы (в том числе коммунисты) подчинены контролю реперткома…» (Независимая газета. 21.11.1996.). Клим Ворошилов с целой комиссией из Политбюро также постановил — «политически нецелесообразным постановку пьесы», однако Сталин, видевший в «Беге» и «Днях Турбиных» идеологический закат, умирание старой эпохи, в том числе и белогвардейщины, взял под защиту Булгакова и разрешил постановку его пьес.
Но в этот период Сталин и его подопечные начали кампанию даже против… празднования Нового Года, как отжившего буржуазного праздника. Еврейский советский поэт Шимон Кирсанов решил помочь и ударил своим «талантом» в стиле Маяковского в газете «Комсомольская правда» по «их» ёлке и по «их» Деду Морозу:
Елка сухая розга
Маячит в глазища нам.
По шапке Деда Мороза,
Ангела — по зубам!
«Естественно» в СССР стали «забывать» и стыдиться всех побед русской армии до 1917 года, поэтому «естественно» и увертюру Чайковского — «1812 год» Советская власть, Сталин запретил в 1928 году исполнять. Вот он — «прогресс» захватчиков Российской империи после 11 лет Советской власти. Задам риторический вопрос — знал ли Сталин в этот период, что его подчиненные борются с патриотическими произведениями в искусстве и с Новогодней ёлкой и Дедом Морозом? Надеюсь, что хотя бы один фанатичный сталинист в результате внутреннего дискомфорта и внутренней борьбы сломает своё табу и заборы, которыми огородил «святость» Сталина, и ответит на этот и множество других подобных вопросов для себя честно и правдиво. После 1925 года никакой трагедии в СССР уже нельзя было свалить на Ленина или Бронштейна. Это через несколько лет, когда к власти в Германии придет не скрывающий с 1924 года своих агрессивных планов Гитлер, опытный политтехнолог Сталин станет с 1934 года срочно искать точки патриотизма, на которых можно было бы поднять на борьбу народ, попутно и за Советскую власть, — вспомнил историю русского народа, героев и даже вернул оставшимся в живых казакам лампасы, а в армии ввёл офицерам царские офицерские звания, но это будет после 1933 года.
Вернемся к коллективизации. Посланные в начале 1928 года из городов для организации колхозов, пропаганды и повышения сознательности крестьян многие тысячи коммунистов и горластых рабочих (более 160 тысяч) — не смогли сдвинуть проблему с мертвой точки — крестьяне наотрез отказывались бросить привычный образ труда и идти работать в колхозы. Любопытно объяснял это нежелание крестьян в своей книге современный сталинист К. Романенко: «Не желавшие расстаться с почти врожденной страстью к собственности, они воспротивились начавшимся преобразованиям. За этой психологией стояла тысячелетняя философия семейного происхождения эгоизма и частной организации общества. Крестьянин, охотно отнявший землю у помещика, не хотел отдавать её в коллективное пользование.
В основной своей массе деревня была неграмотна и руководствовалась почти животной логикой инстинктов. Кулак почувствовал, что уже само создание колхозов уничтожит базу для его экономического существования. Дальнейшее ведение хозяйства на эксплуатации односельчан становилось невозможным. Социализация деревни выбивала у кулака почву из-под ног» (К. Романенко «Сталинский 37-й. Лабиринты заговоров», М., 2007 г.).
Удивительно, — почему у этого современного сталиниста, историка такое хамско-презрительное былое коммунистическое отношение к своим крестьянам — к 80% своего народа? Послушать К. Романенко, так 120 миллионов русских крестьян — это животные с дикими инстинктами. А грабеж крестьян и репрессии по отношению к ним К. Романенко красиво называет «социализацией».
В 2008 году в С. Петербурге я слушал трёхчасовое выступлении в ДК «Ленсовета» бывшего советского кэгэбиста и автора многочисленных хороших книг о сталинском периоде А. Мартиросяна, в котором меня и многих моих знакомых поразило и удивило — с какой яростной ненавистью спустя 80 лет после тех событий выступающий говорил о лучших хлеборобах, о лучших хозяевах того периода — о «кулаках». Благодаря Романенко и ему подобным создается впечатление, что «кулак», его жена, их престарелые родители, его дети, не работали от зари до зари на своей земле, а только сидели дружно на бугорке и, сплевывая семечки, наблюдали, как горбатятся на них закабаленные ими коварно односельчане. Конечно, с таким лживым агрессивным коммунистическим подходом, с созданием такого образа врага из огромной части своего народа, даже не будучи карателем из НКВД у многих читателей возникнет огромное желание жестоко «мочить» этих деревенских эксплуататоров, дать им в морду, всё у них отобрать и выгнать далеко — на вечную мерзлоту и с сарказмом наблюдать: пусть они там докажут свою производительность и толковость.
Крестьяне упорно не хотели распрощаться с родной землицей — как с собственностью, хотя она таковой и не являлась, с многовековым образом жизни, с привычным семейным трудом — не желали порвать со всем этим, сбросить в общую кучу всё своё нажитое богатство, причем нажитое ещё и отцами и дедами, и идти всем скопом куда-то в неизвестность, чему даже нет положительного, успешного примера. Понятно, что более всех не хотели ничего менять зажиточные, успешные крестьяне, которые после многих лет войны и голода наконец-то могли накушаться вдоволь, рожать детей и их сытно кормить, купить что-то вместо лохмотьев женам, работать свободно, торговать свободно, — они ни у кого ничего не просили, от советского государства ничего не получали, не крали, не грабили и не обманывали — всё зарабатывали своим трудом, своими руками, ногами, спинами, головами и с помощью своих детей. Крестьянин, как любой обычный человек, беспокоился, боялся за свою семью, своих детей. А крестьянство ликвидировали как социальный класс со своей характерной психологией, включая особое отношение к земле и труду, — крестьян переводили в сельхозрабочие, которые стали относиться к земле, как чужому станку, к чужой грядке, на которую его наняли работать. Отсюда и разница в производительности труда фермера и колхозника.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:

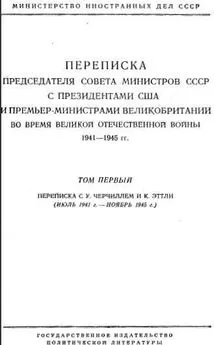
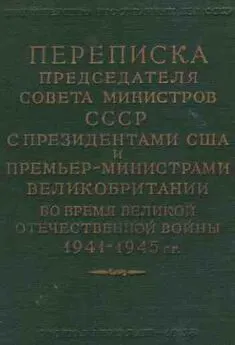

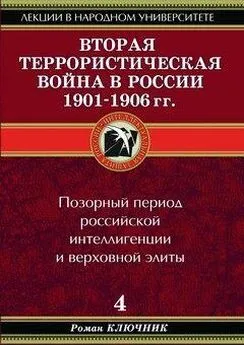
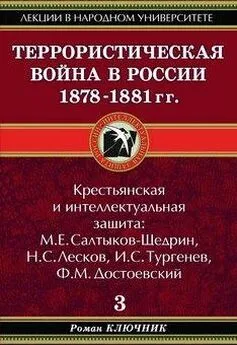
![Лю Юн-нянь - Дружба, скрепленная кровью [Сборник воспоминаний китайских товарищей — участников Великой Октябрьской социалистической революции и Гражданской войны в СССР.]](/books/1087498/lyu-yun.webp)
![Коллектив авторов История - История гражданской войны в СССР. Том 2 [Великая пролетарская революция (октябрь - ноябрь 1917 года)]](/books/1087587/kollektiv-avtorov-istoriya-istoriya-grazhdanskoj-vojny-v-sssr-tom-2-velikaya-proletarskaya-revolyuciya-oktyabr-noyabr-1917-goda.webp)
![Коллектив авторов История - История гражданской войны в СССР. Том 1 [Подготовка Великой пролетарской революции (от начала войны до начала октября 1917 г.)]](/books/1087588/kollektiv-avtorov-istoriya-istoriya-grazhdanskoj-vojn.webp)

![Коллектив авторов - История гражданской войны в СССР в 5 томах. Т. I. [Без иллюстраций]](/books/1102145/kollektiv-avtorov-istoriya-grazhdanskoj-vojny-v-sssr.webp)