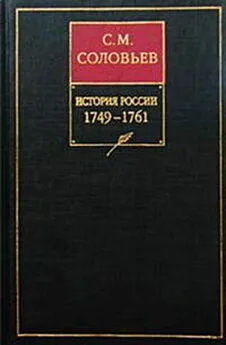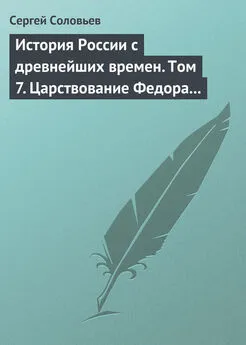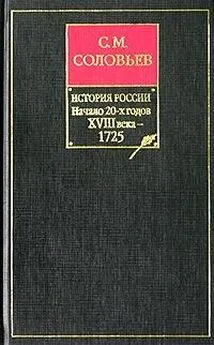Сергей Соловьев - История России с древнейших времен. Том 23. Царствование императрицы Елисаветы Петровны. 1749–1755 гг/
- Название:История России с древнейших времен. Том 23. Царствование императрицы Елисаветы Петровны. 1749–1755 гг/
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:АСТ, Фолио
- Год:2001
- Город:М.
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Сергей Соловьев - История России с древнейших времен. Том 23. Царствование императрицы Елисаветы Петровны. 1749–1755 гг/ краткое содержание
Двадцать третий и двадцать четвертый тома сочинений С.М. Соловьева «История России с древнейших времен», освещают события последних тринадцати лет царствования императрицы Елизаветы Петровны – с 1749 г. вплоть до ее смерти в 1761 г.
История России с древнейших времен. Том 23. Царствование императрицы Елисаветы Петровны. 1749–1755 гг/ - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Число ученых священников было еще незначительно, да и не все из них окончили полный курс, некоторые, получив уже место, продолжали посещать училище; а между тем недостаток в людях и школах заставлял отнимать у духовенства лучших воспитанников для светской науки. Мы видели, как духовное начальство сильно отстаивало воспитанников своих училищ от требований Медицинской канцелярии. Но в 1748 году явился в Новгороде и Москве знаменитый профессор элоквенции Тредиаковский от Академии наук для набора студентов в академический университет и выбрал лучших. В Петербурге в Академии экзаменовали их Ломоносов, Браун и Фишер и нашли, что 17 воспитанников в гуманиорах и школьной философии довольный успех имеют, так что на академические лекции о чистоте штиля, здравейшей философии и математики допущены быть могут, а двоих из них надобно послать на несколько времени в академическую гимназию латинскому языку учиться. Деятельность Академии наук преимущественно высказывалась в деятельности двоих ее членов – Ломоносова и Мюллера; темная сторона тогдашней ученой жизни выражалась в борьбе этих знаменитостей друг с другом и в борьбе их с людьми, которые, получив не по праву сильное влияние на судьбу науки в России, не могли выносить законных представителей науки, потому что последние не могли спокойно подчиняться им. Затруднительное положение Академии проистекало главным образом оттого, что в стране, какою была тогдашняя Россия, где наука не могла еще пустить сколько-нибудь глубоких корней, нельзя было наполнить ученого учреждения все достойными членами, большинство подавало повод к разного рода упрекам относительно исполнения обязанностей, и этим пользовались люди, желавшие управлять Академиею; они выставляли на вид, что ученые не способны, не достойны сами управляться, что ими нужно управлять другим, и достигали своей цели, причем, разумеется, за грехи недостойного большинства платилось достойное меньшинство.
Профессор химии, напечатавший в 1748 году риторику, первую на русском языке, где все примеры сочинены или переведены им самим, в 1749 году трудился в лаборатории, делал химические опыты, до крашения стекол надлежащие, приготовлял простые материалы, разные соли, водки, а потом старался искать и нашел способ, как делать берлинскую лазурь и бакан веницейский; он же делал физические опыты и сочинял похвальную речь императрице на российском языке и переводил ее на латинский, участвовал в составлении российского лексикона. Похвальное слово императрице Ломоносов произносил в торжество восшествия на престол Елисаветы (Академия имела собрание на другой день праздника, 26 ноября). Произнесение речей на этом торжестве всего лучше было поручать двоим самым видным членам Академии – Ломоносову и Мюллеру, ибо кроме внутреннего достоинства, какое они могли дать своим речам, оба ученые были богатыри физически, обладали громким голосом и не смущались перед публикою. Шумахер видел необходимость назначать ораторами Ломоносова и Мюллера, но вот как по этому случаю завистливый пигмей выразил свою ненависть к великанам. Шумахер писал Теплову: «Очень бы я желал, чтобы кто-нибудь другой, а не г. Ломоносов произнес речь в будущее торжественное заседание, но не знаю такого между нашими академиками. Оратор должен быть смел и некоторым образом нахален: разве у нас есть кто-нибудь другой в Академии, который бы превзошел его в этих качествах?» О Мюллере Шумахер выражается так же: «Он обладает громким голосом и присутствием духа, которое очень близко к нахальству».
Для нас в знаменитом панегирике, который так долго выставлялся образцом ораторской речи, особенно замечательно указание Ломоносова на то, чего недостает русской науке, чем должно было заняться образующееся поколение: «Представьте себе (российские юноши) будущее ваше состояние, к которому вы избраны, со благоговением внимайте, что августейшая императрица, довольствуя вас своею казною, матерски повелевает, обучайтесь прилежно, я видеть российскую Академию из сынов российских состоящую желаю; поспешайте достигнуть совершенства в науках: сего польза и слава отечества, сего намерения моих родителей, сего мое произволение требует. Не описаны еще дела моих предков, и не воспета по достоинству Петрова великая слава. Простирайтесь в обогащении разума и в украшении российского слова. В пространной моей державе неоцененные сокровища, которые натура обильно произносит, лежат потаенны и только искусных рук ожидают: прилагайте крайнее старание к естественных вещей познанию».
Когда речь стала известна в Москве и за границею, Шумахера начали терзать известиями о ее успехе: Теплов писал ему, что речь понравилась при дворе, Эйлер писал ему из Берлина, что это образцовое произведение в своем роде. То же значение образца красноречия имело и другое похвальное слово Ломоносова – Петру Великому, произнесенное в 1755 году. Произнесши образцовую речь, оратор опять уходил в лабораторию, где занимался составлением красок и стекол для мозаики. «По регламенту Академии наук, – писал он, – профессорам должно не меньше стараться о действительной пользе обществу, а особливо о приращении художеств, нежели о теоретических рассуждениях; а сие больше всех касается до тех, которые соединены с практикою, каково есть химическое искусство. Того ради за благо я рассудил, во-первых, изыскивать такие вещи, которые художникам нужны, а выписывают их из других краев и для того покупают дорогою ценою». Что и другое требование регламента относительно теоретических рассуждений не было забыто, доказательством служат известные исследования Ломоносова, принадлежащие описываемому времени: «О причинах теплоты и холода», где автор выводил явления теплоты из вращательного движения частиц в телах; «Об упругости воздуха», «О химических растворах»; сюда же должно отнести «Слово о пользе химии» и «Слово о явлениях воздушных, от электрической силы происходящих». Последнее сочинение особенно замечательно. Узнавши об открытиях Франклина относительно электричества, Ломоносов сам повторил его опыты и составил целую теорию воздушных электрических явлений, которая во многих пунктах сходится с теориею Франклина и во многих превышает ее. Знаменитый ученый-современник Эйлер отозвался о сочинении Ломоносова, что оно «обнаруживает в авторе счастливое дарование к распространению истинного естествоведения, чему образцы, впрочем, и прежде он представил в своих сочинениях. Ныне таковые умы весьма редки». Отзывы такого авторитета, как Эйлер, заставляли даже Шумахера признаваться, что у Ломоносова «замечательный ум и отличное пред прочими дарование, чего не отвергают и здешние профессора и академики. Только они не могут сносить его высокомерия».
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: