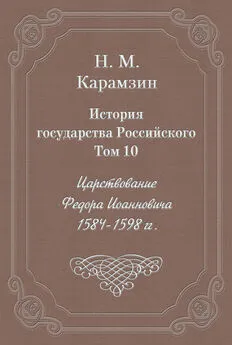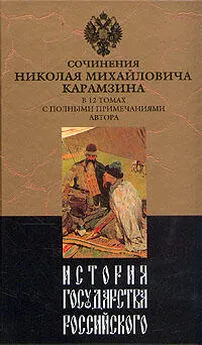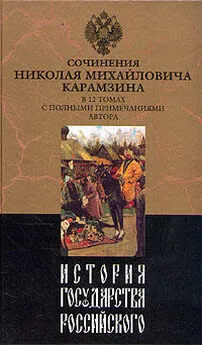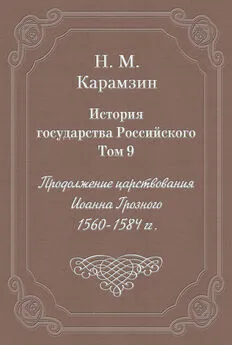Николай Карамзин - История государства Российского. Том 10. Царствование Федора Иоанновича. 1584-1598 гг.
- Название:История государства Российского. Том 10. Царствование Федора Иоанновича. 1584-1598 гг.
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Мир книги
- Год:2003
- ISBN:5-8405-0418-1, 5-8405-0429-7
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Николай Карамзин - История государства Российского. Том 10. Царствование Федора Иоанновича. 1584-1598 гг. краткое содержание
Двенадцатитомная «История государства Российского», написанию которой Карамзин посвятил последние 22 года своей жизни, охватывает период с древнейших времен до начала XVII века и является не только значительным историческим трудом, но и прекрасным литературным произведением.
Карамзин внес много нового в понимание общего хода русской истории и в оценки отдельных исторических событий, раскрыл при помощи психологического анализа идейные и моральные мотивы действий исторических личностей.
Полагая, что история человечества есть история всемирного прогресса, основу которого составляет борьба разума с заблуждением, просвещения – с невежеством. Карамзин видел задачу историка в том, чтобы наставлять людей в их общественной деятельности.
В десятом томе «Истории государства Российского» рассказывается о царствовании Федора Иоанновича с 1584 по 1598 год. В заключительной, IV главе автор дает оценку состояния России в конце XVI века.
История государства Российского. Том 10. Царствование Федора Иоанновича. 1584-1598 гг. - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
«Россияне (пишет Маржерет), сохраняя еще многие старые обычаи, уже начинают изменяться в некоторых с того времени, как видят у себя иноземцев. Лет за 20 или за 30 пред сим, в случае какого-нибудь несогласия, они говорили друг другу без всяких обиняков, слуга Боярину, Боярин Царю, даже Иоанну Грозному: ты думаешь ложно, говоришь неправду . Ныне менее грубы и знакомятся с учтивостию; однако ж мыслят о чести не так, как мы: например, не терпят поединков и ходят всегда безоружные, в мирное время вооружаясь единственно для дальних путешествий; а в обидах ведаются судом. Тогда наказывают виновного батожьем, в присутствии обиженного и судьи, или денежною пенею, именуемою бесчестьем , соразмерно жалованью истца: кому дают из Царской казны ежегодно 15 рублей, тому и бесчестья 15 рублей, а жене его вдвое: ибо она считается оскорбленною вместе с мужем. За обиду важную секут кнутом на площадях, сажают в темницу, ссылают. Правосудие ни в чем не бывает так строго как в личных оскорблениях и в доказанной клевете. Для самых иноземцев поединок есть в России уголовное преступление».
Женщины, как у древних Греков или у восточных народов, имели особенные комнаты и не скрывались только от ближних родственников или друзей. Знатные ездили зимою в санях, летом в колымагах, а за Царицею (когда она выезжала на богомолье или гулять) верхом, в белых поярковых шляпах, обшитых тафтою телесного цвета, с лентами, золотыми пуговицами и длинными, до плеч висящими кистями. Дома они носили на голове шапочку тафтяную, обыкновенно красную, с шелковым белым повойником или шлыком; сверху для наряда большую парчовую шапку, унизанную жемчугом (а незамужняя или еще бездетная – черную лисью); золотые серьги с изумрудами и яхонтами, ожерелье жемчужное, длинную и широкую одежду из тонкого красного сукна с висящими рукавами, застегнутыми дюжиною золотых пуговиц, и с отложным до половины спины воротником собольим; под сею верхнею одеждою другую, шелковою, называемою летником , с руками, надетыми и до локтя обшитыми парчою; под летником ферезь , застегнутую до земли; на руках запястье, пальца в два шириною, из каменьев драгоценных; сапожки сафьянные, желтые, голубые, вышитые жемчугом, на высоких каблуках: все, молодые и старые, белились, румянились и считали за стыд не расписывать лиц своих.
Между забавами сего времени так описывают любимую Феодорову – медвежий бой : «Охотники Царские, подобно римским гладиаторам, не боятся смерти, увеселяя Государя своим дерзким искусством. Диких медведей, ловимых обыкновенно в ямы или тенетами, держат в клетках. В назначенный день и час собирается двор и несметное число людей пред феатром, где должно быть поединку , сие место обведено глубоким рвом для безопасности зрителей и для того, чтобы ни зверь, ни охотник не могли уйти друг от друга. Там является смелый боец с рогатиною, и выпускают медведя, который, видя его, становится на дыбы, ревет и стремится к нему с отверстым зевом. Охотник недвижим: смотри, метит – и сильным махом всаживает рогатину в зверя, а другой конец ее пригнетает к земле ногою. Уязвленный, яростный медведь лезет грудью на железо, орошает его своею кровию и пеною, ломит, грызет древко – и если одолеть не может, то, падая на бок, с последним глухим ревом издыхает. Народ, доселе безмолвный, оглашает площадь громкими восклицаниями живейшего удовольствия, и Героя ведут к погребам Царским пить за Государево здравие: он счастлив сею единственною наградою или тем, что уцелел от ярости медведя, который в случае неискусства или малых сил бойца, ломая в куски рогатину, зубами и когтями растерзывает его иногда в минуту».
Говоря о страсти Московских жителей к баням, Флетчер всего более удивлялся нечувствительности их к жару и холоду, видя, как они в жестокие морозы выбегали из бань нагие, раскаленные, и кидались в проруби.
Известие сего наблюдателя о тогдашней нравственности Россиян не благоприятствовало их самолюбию: как Писатель учтивый, предполагая исключения, он укорял Москвитян лживостию и следствием ее, недоверчивостию беспредельною, изъясняясь так: «Москвитяне никогда не верят словам, ибо никто не верит их слову». Воровство и грабеж, по его сказанию, были часты от множества бродяг и нищих, которые, неотступно требуя милостыни, говорили всякому встречному: «дай мне или убей меня!» Днем они просили, ночью крали или отнимали, так что в темный вечер люди осторожные не выходили из дому. – Флетчер, ревностный слуга Елисаветин, враг западной церкви, несправедливо осуждая и в нашей все то, что сходствовало с уставами Римской, излишно чернит нравы монастырские, но признается, что искренняя набожность господствовала в России.
Угождая ли общему расположению умов или в терзаниях совести надеясь успокоить ее действиями внешнего благочестия, сам Годунов казался весьма набожным: в 1588 году, имея только одного сына – младенца, зимою носил его больного, без всякой предосторожности, в церковь Василия Блаженного и не слушал врачей: младенец умер. Тогда же был в Москве юродивый, уважаемый за действительную или мнимую святость: с распущенными волосами ходя по улицам нагой в жестокие морозы, он предсказывал бедствия и торжественно злословил Бориса; а Борис молчал и не смел сделать ему ни малейшего зла, опасаясь ли народа или веря святости сего человека. Такие юродивые, или блаженные, нередко являлись в столице, носили на себе цепи или вериги, могли всякого, даже знатного человека укорять в глаза беззаконною жизнию и брать все, им угодное, в лавках без платы: купцы благодарили их за то, как за великую милость. Уверяют, что современник Иоаннов, Василий Блаженный, подобно Николе Псковскому, не щадил Грозного и с удивительною смелостию вопил на стогнах о жестоких делах его.
Упрекая Россиян суеверием, иноземцы хвалили однако ж их терпимость, которой мы не изменяли со времен Олеговых до Феодоровых и которая в наших летописях остается явлением достопамятным, даже удивительным: ибо чем изъяснить ее? Просвещением ли, которого мы не имели? Истинным ли понятием о существе Веры, о коем спорили и философы и богословы? Равнодушием ли к ее догматам в Государстве искони набожном? Или естественным умом наших древних Князей воинственных, которые хотели тем облегчить для себя завоевания, не тревожа совести побеждаемых, и служили образцом для своих преемников, оставив им в наследие и земли разноверные и мир в землях? То есть назовем ли сию терпимость единственно политическою добродетелию? Во всяком случае она была выгодою для России, облегчив для нас и завоевания и самые успехи в гражданском образовании, для коих мы долженствовали заманивать к себе иноверцев, пособников сего великого дела.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: