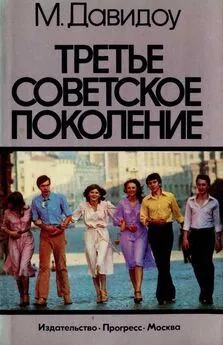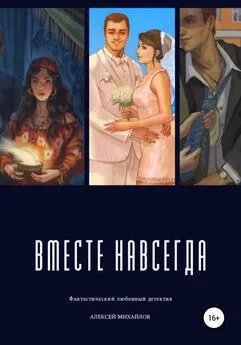Алексей Юрчак - Это было навсегда, пока не кончилось. Последнее советское поколение
- Название:Это было навсегда, пока не кончилось. Последнее советское поколение
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Новое литературное обозрение
- Год:2014
- Город:М.
- ISBN:978-5-444-80190-1
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Алексей Юрчак - Это было навсегда, пока не кончилось. Последнее советское поколение краткое содержание
Для советских людей обвал социалистической системы стал одновременно абсолютной неожиданностью и чем-то вполне закономерным. Это драматическое событие обнажило необычный парадокс; несмотря на то, что большинство людей воспринимало советскую систему как вечную и неизменную, они в принципе были всегда готовы к ее распаду. В книге профессора Калифорнийского университета в Беркли Алексея Юрчака система «позднего социализма» (середина 1950-х — середина 1980-х годов) анализируется в перспективе этого парадокса. Образ позднего социализма, возникающий в книге, в корне отличается от привычных стереотипов, согласно которым советскую реальность можно свести к описанию, основанному на простых противопоставлениях: официальная / неофициальная культура, тоталитарный язык / свободный язык, политическое подавление / гражданское сопротивление, публичная ложь / скрытая правда.
Это было навсегда, пока не кончилось. Последнее советское поколение - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Из сталинской критики теории Марра и других «вульгарно-марксистских» моделей языка следовало два неожиданных вывода. С одной стороны, поскольку язык не является частью надстройки, он не может автоматически меняться революционными скачками, как обещал Марр. С другой стороны, поскольку язык не является средством производства (базисом), манипулирование языком в политических целях не способно напрямую привести к возникновению коммунистического сознания, как надеялись футуристы и поэтический авангард. Вместо этих разом устаревших идей Сталин предложил новую: советское языкознание должно приступить к изучению «объективных научных законов», которые действуют на уровне глубинной природы языка, — законов, по которым происходит эволюция языка, его взаимодействие с сознанием, психологией, биологией и так далее.
Это заявление Салина было частью масштабной кампании по искоренению «вульгарно материалистического» и «идеалистического» подходов в науке и эстетике, унаследованных от революционного авангарда, и их замене материализмом объективных научных законов. Изменилось понимание того, что собой представляет «научность» академических исследований в целом. Если в 1930-х годах научность теории была тесно связана с ее партийностью (с тем, насколько партийным было мировоззрение ученого), то теперь уровень научности определялся некими «объективными научными законами», которые не были известны заранее и к партийности прямого отношения не имели.
Аналогичное изменение в понятии научности произошло во всех научных сферах, что привело, по меткому выражению Катерины Кларк, к освобождению этих сфер от «чрезмерного экономического детерминизма» {78} . Просматривая в 1948 году черновик выступления Лысенко, в котором он говорил о классовой основе всей науки вообще, включая генетику, Сталин, прежде и сам делавший подобные заявления и поддерживавший теории Лысенко, вдруг написал на полях с насмешкой: «Ха-ха-ха!!! А как же математика? А как же дарвинизм?» {79} Такой же сдвиг произошел и в искусстве, истинность которого теперь тоже должна была определяться посредством объективных природных законов. Когда в 1948 году Жданов [55], по личному указанию Сталина, резко раскритиковал советских композиторов Прокофьева и Шостаковича, он заявил, что их музыка «дисгармонична», поскольку она является «нарушением основ не только нормального функционирования музыкального звука, но и основ физиологии нормального человеческого слуха». Эта музыка, писал Жданов, искажает «правильную психофизиологическую деятельность человека» {80} .
В 1952 году первый номер нового журнала «Вопросы языкознания», созданного как реакция на сталинскую критику, опубликовал призыв к полному «обновлению» и «перестройке» советского языкознания. Языкознание должно было расширить призму, через которую оно рассматривало язык, с тем чтобы изучать его не только как классовое явление. Необходимо было понять «объективные» законы и принципы языка, которые невозможно свести к общественной истории, — принципы функционирования мозга, сознания, мышления, их связь с законами физиологии, математики, логики и так далее. «Советские лингвисты», писала редакция журнала, «еще не подошли вплотную к некоторым очень существенным проблемам теории языка», еще не создали теорий о «связи языка и мышления… грамматики и логики… взаимосвязи между развитием мышления и совершенствованием грамматического строя языка, об образном и понятийном мышлении…» {81}
Самым важным изменением, которое последовало за сталинской критикой языкознания и науки вообще, стала смена парадигм в модели советского идеологического дискурса, которую мы рассмотрели выше. В этой модели изменилось понимание того, что такое «объективная истина» — которая должна была отражаться в идеологическом описании — и какое место эта истина занимает по отношению к конкретным идеологическим высказываниям и формулировкам. Вспомним, что согласно модели советского идеологического дискурса, которая существовала до этого момента, этот дискурс должен был апеллировать к заранее заданному, фиксированному, внешнему канону объективной истины, известному лишь внешней господствующей фигуре (Сталину), находящейся за пределами самого идеологического дискурса и способной осуществлять оценку публичных высказываний, путем сравнения их с этим каноном. Теперь же, согласно новой модели языка, фиксированного и заранее заданного канона истины больше не было. Следовательно, он не мог быть известен какому-то конкретному, особому субъекту, находящемуся за пределами идеологического дискурса. Верность любого идеологического высказывания теперь определялась не мнением внешней фигуры, а некими «объективными законами» — законами, которые заранее не были известны и которые еще только предстояло открыть. Это означало, что внешняя по отношению к идеологическому языку позиция вообще перестала существовать — стало невозможно проводить «объективную» оценку текстов, высказываний и других видов политической репрезентации на предмет их соответствия неизменному канону. В результате исчез публичный метадискурс, который ранее осуществлял подобную оценку идеологических текстов и делал к ним комментарии.
Повторимся, что, как это ни парадоксально, сталинская критика языкознания и других областей науки привела к уничтожению той господствующей позиции, внешней по отношению к политическому языку, из которой Сталин мог начать эту критику. Видимо, не осознавая того, что он делает, Сталин дал толчок глобальному сдвигу парадигм внутри советского дискурсивного режима. В 1956 году, через три года после смерти Сталина, Хрущев, в роли нового генерального секретаря партии, завершил этот сдвиг парадигм, сделав его необратимым. После публичного осуждения культа личности, сделанного Хрущевым на XX съезде партии, исчезла всякая возможность занимать внешнюю по отношению к идеологическому дискурсу позицию. Фигуры, стоящей за пределами идеологического дискурса и имеющей уникальное и неоспоримое знание канона марксистско-ленинской истины, больше быть не могло. В результате этого сдвига парадокс Лефора в структуре советской идеологии оказался более ничем не скрыт. Выйдя наружу, он начал проявляться во всех идеологических высказываниях и постепенно привел к кардинальному изменению всей структуры советской идеологии. Именно с этой смены парадигм в советском дискурсивном режиме и началась эпоха позднего социализма.
Нормализация языка
Исчезновение метадискурса, способного давать публичные комментарии по поводу идеологии, отразилось на всех формах политической коммуникации и культурного производства. Процессы сочинения, редактирования и обсуждения партийных документов и текстов становились все менее и менее публичными, все более скрываясь от взгляда общественности за стенами ЦК. С этого момента «специалисты по идеологическому языкознанию», напишет позже социолог Игорь Клямкин, перестали публично комментировать политические высказывания друг друга и начали «обсуждать свои профессиональные проблемы за закрытыми дверями» {82} . Единственной публично видимой позицией теперь была позиция не автора идеологического языка, а его ретранслятора — то есть позиция человека, который лишь повторяет предыдущие авторитетные высказывания, не создавая новых.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: