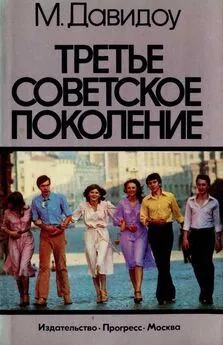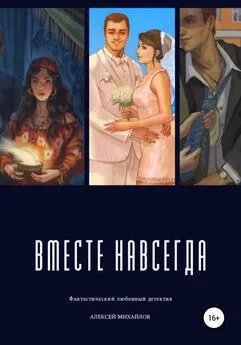Алексей Юрчак - Это было навсегда, пока не кончилось. Последнее советское поколение
- Название:Это было навсегда, пока не кончилось. Последнее советское поколение
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Новое литературное обозрение
- Год:2014
- Город:М.
- ISBN:978-5-444-80190-1
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Алексей Юрчак - Это было навсегда, пока не кончилось. Последнее советское поколение краткое содержание
Для советских людей обвал социалистической системы стал одновременно абсолютной неожиданностью и чем-то вполне закономерным. Это драматическое событие обнажило необычный парадокс; несмотря на то, что большинство людей воспринимало советскую систему как вечную и неизменную, они в принципе были всегда готовы к ее распаду. В книге профессора Калифорнийского университета в Беркли Алексея Юрчака система «позднего социализма» (середина 1950-х — середина 1980-х годов) анализируется в перспективе этого парадокса. Образ позднего социализма, возникающий в книге, в корне отличается от привычных стереотипов, согласно которым советскую реальность можно свести к описанию, основанному на простых противопоставлениях: официальная / неофициальная культура, тоталитарный язык / свободный язык, политическое подавление / гражданское сопротивление, публичная ложь / скрытая правда.
Это было навсегда, пока не кончилось. Последнее советское поколение - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Алексей, 1958 года рождения, работавший в начале 1980-х годов в одном из ленинградских книжных издательств, так описывает своего коллегу комсомольского возраста, тоже работавшего в издательстве:
Например, он отказывался платить комсомольские членские взносы, мотивируя это моральными соображениями….Он был тихий, но диссидентствующий. Большинству из нас он не нравился. То, что он делал, казалось не только глупым, но и бесполезным. Но главное, это могло создать проблемы для других людей, работавших с ним {194} .
Проблемы для других могли варьироваться от выговора комсоргу отдела, в котором работал этот уклоняющийся от взносов комсомолец, до долгих и нудных обсуждений, которые должны были вести на собраниях его товарищи и коллеги, до крайне неприятной процедуры его исключения из комсомола, в которой они вынуждены были бы принимать участие.
Поэтому люди с такими принципами подчас подозревались большинством в «ненормальности» — в моральных, а то и психических отклонениях (подобно тому, как больной человек воспринимается здоровым большинством, по меткому выражению Бродского — выше). Эдуард, 1960 года рождения, вспоминает об отношении его коллег по радиотехническому НИИ, где он работал, к одному молодому инженеру. В середине 1980-х годов стало известно, что этот инженер распространял диссидентскую статью, в которой критиковалась война в Афганистане: «В институте многие считали, что этот парень был психически нездоров. Поговаривали даже, что еще он распространял порнографию, хотя я в это не верил» [100]. В данном случае, поскольку многим казалось, что такие люди не понимают, как устроена реальность, это непонимание воспринималось многими как проявление моральных или психических отклонений.
Олеся, искусствовед 1962 года рождения, столкнулась с одним «диссидентствующим» студентом, когда в начале 1980-х годов она училась в университете:
Он постоянно говорил что-нибудь скептическое о партии, советской системе и тому подобное. Все мы в то время, конечно, рассказывали анекдоты про Брежнева. Это было в норме вещей. Но этот человек не просто рассказывал анекдоты — он делал глубокие выводы и хотел поделиться ими с тобой… Все вокруг считали его действия глупыми. Как в поговорке: «Заставь дурака Богу молиться, он и лоб расшибет»….Его слова производили сильное впечатление — они вызывали не то что страх, а скорее неприятные ощущения. Одно дело читать Достоевского, и совсем другое в реальности сталкиваться с его героями. Читать о них может быть интересно, но встречаться с ними — не очень. Когда реальный человек стоит перед тобой и постоянно говорит что-то скептическое, становится неприятно. Он ожидает от тебя какой-то реакции, но тебе нечего ответить. Не потому, что ты не способен анализировать как он, а потому, что тебе не хочется этого делать {195} .
Упоминая героев Достоевского — идеалистов, правдоискателей, отверженных, психически неуравновешенных, — Олеся проводит знакомую уже аналогию с «ненормальными» людьми, имеющими какие-то отклонения. Повторимся, что все вышесказанное не имеет отношения к реальным диссидентам и, естественно, не призвано бросить тени на людей, чьи действия в советский период были действительно героическими и чаще всего исходили из приверженности высокоморальным ценностям. Однако то, как «диссиденты» и «активисты» воспринимались «нормальными людьми» в доперестроечные годы, важно не само по себе, а как симптом отношения последних к советской системе, который еще раз показывает, что это отношение нельзя свести ни к сопротивлению, ни к конформизму. В основе этого отношения лежала иная логика, заключающаяся в постоянной внутренней трансформации системы без ее прямой поддержки или прямого ей противодействия.
Перформативность идеологических ритуалов
В обязанности Ирины, комсорга одного из отделов большой научной библиотеки (см. выше), входили регулярные сборы комсомольских взносов у рядовых комсомольцев ее отдела [101]. Ирина сдавала собранные взносы в комитет комсомола библиотеки, который, в свою очередь, направлял их в райком. Если взносы платились не вовремя или не в полном объеме, Ирина могла получить официальный выговор от комитета комсомола. Выговоры были не так уж безобидны — они могли отрицательно повлиять на карьеру, привести к потере денежной премии, закрыть возможность поездки за рубеж с экскурсионной группой и так далее. Однако некоторые комсомольцы тянули с выплатой взносов, воспринимая их как неприятную формальность и пустую трату денег. Когда Ирина напоминала членам своей комсомольской группы о необходимости платить взносы, многие иронизировали над ней, называя ее «сборщиком подати». Эта ироничная фраза выдает недовольство рядовых комсомольцев принудительной процедурой сбора взносов, но при этом она также отражает их понимание того, что Ирина была всего лишь посредником (сборщиком подати, а не тем, кто ее установил и кто ее получает), выполняющим задачу, предписанную «сверху», невыполнение которой чревато для нее неприятностями. Понимание этой роли Ирины не позволяло подавляющему большинству комсомольцев тянуть с уплатой взносов. По выражению Ирины, «все мы были своими… Никто никого не заставлял платить силой… Я просто подходила к человеку и по-дружески объясняла: “Ты же знаешь, что райком требует от нас сдавать взносы. Пожалуйста, не создавай нам проблем”». Повторяющийся ритуал сбора взносов, включая процесс уговоров, переговоров и упреков между комсоргами и рядовыми комсомольцами, так же как и другие ритуалы и высказывания авторитетного дискурса, способствовал возникновению новой общности людей, которая отличалась от той «коммунистической молодежи», ради создания которой этот и другие ритуалы создавались. Вместо создания общности сознательных комсомольцев такие практики вели к формированию незапланированной общности своих, с ее особым отношением к авторитетному дискурсу и собой этикой взаимопонимания и взаимной ответственности. Молодой человек из одного вышеупомянутого примера, который отказывался платить взносы «из принципа», вызывал у них гораздо большее раздражения, чем комсорг Ирина, которая собирала взносы и которую они называли «сборщиком подати». Ирина была своей, а он своим не был.
Множество других ритуалов комсомольской жизни также способствовало возникновению в советской повседневности смыслов и отношений, которые отличались от тех, что буквально заявлялись в авторитетном дискурсе. Одним из самых важных и массовых ритуалов были регулярные комсомольские собрания. По словам Ирины, которая отвечала за проведение собраний в своем отделе научной библиотеки, комитеты комсомола получали из райкома списки тем, которые необходимо было обсудить на собраниях. Ирина описывает распространенное отношение к собраниям так: «Ни у кого не было ни малейшего интереса ходить на эти собрания… Но все прекрасно понимали, что их необходимо проводить и что это не моя личная прихоть. Почему их надо было проводить, никто не задумывался». Программист Николай, 1959 года рождения, вспоминает, что он посещал комсомольские собрания в своем институте вычислительной техники, «наверно, из-за стадного инстинкта. Потому что большинство людей вокруг меня тоже ходило». К тому же он чувствовал моральную ответственность перед своим комсоргом: «Все зависело от того, как наша компания относилась к человеку, который отвечал за эти собрания… Если это был нормальный человек, конечно, мы ходили на собрания, чтобы у него не возникало проблем» {196} . Похожую ситуацию описывает Олеся, упоминавшаяся выше:
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: