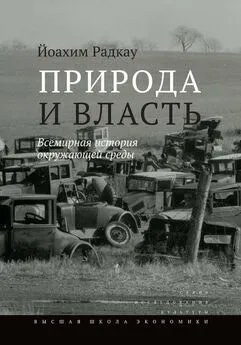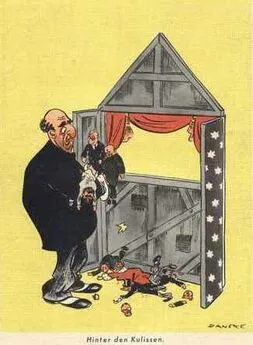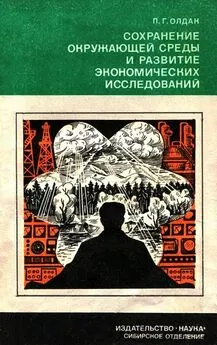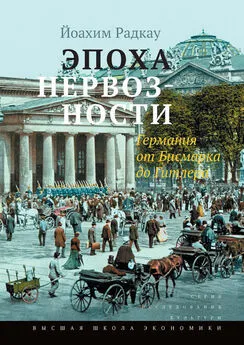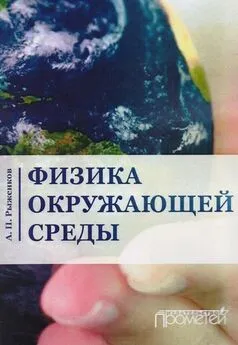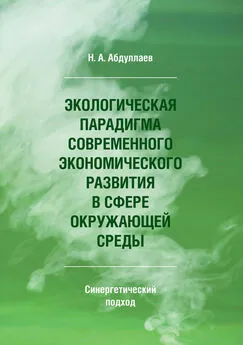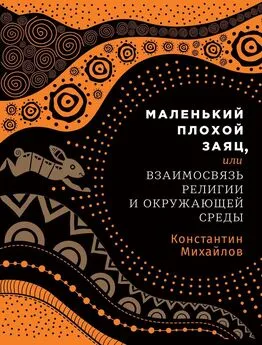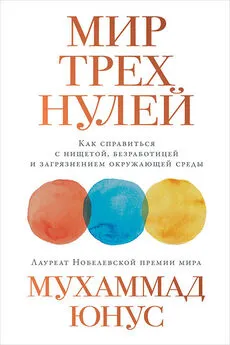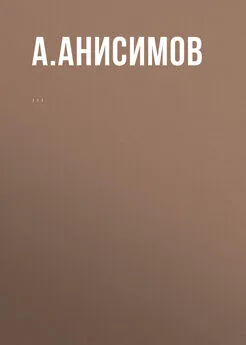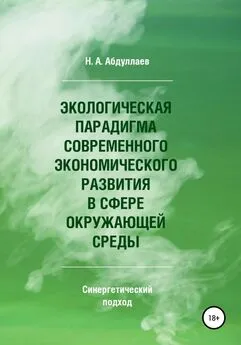Йоахим Радкау - Природа и власть. Всемирная история окружающей среды
- Название:Природа и власть. Всемирная история окружающей среды
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент «Высшая школа экономики»1397944e-cf23-11e0-9959-47117d41cf4b
- Год:2014
- Город:М.
- ISBN:978-5-7598-1109-1
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Йоахим Радкау - Природа и власть. Всемирная история окружающей среды краткое содержание
Взаимоотношения человека и природы не так давно стали темой исследований профессиональных историков. Для современного специалиста экологическая история (environmental history) ассоциируется прежде всего с американской наукой. Тем интереснее представить читателю книгу «Природа и власть» Йоахима Радкау, профессора Билефельдского университета, впервые изданную на немецком языке в 2000 г. Это первая попытка немецкоговорящего автора интерпретировать всемирную историю окружающей среды. Й. Радкау в своей книге путешествует по самым разным эпохам и ландшафтам – от «водных республик» Венеции и Голландии до рисоводческих террас Китая и Бали, встречается с самыми разными фигурами – от первобытных охотников до современных специалистов по помощи странам третьего мира. Красной нитью через всю книгу проходит мысль, что вопрос окружающей среды – это всегда вопрос власти. Смысловым центром книги является раздел «Вода, лес и власть». Не менее важна мысль, что «природа» – не только что-то внешнее по отношению к человеку, но и значительная часть его самого. История экологии, по мнению автора, – это история менталитетов. Особая ценность книги состоит в гигантском охвате использованной литературы – проанализированы не только ведущие труды известных зарубежных специалистов XX века, но и реакция на них.
Книга адресована широкому кругу читателей.
Природа и власть. Всемирная история окружающей среды - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Важнейшими задачами венецианцев в течение нескольких первых столетий были осушение частей Лагуны, получение земли для растущего населения и подготовка полей и пастбищ. Однако постепенно мышление перестраивалось: с XV века осушение перестало толковаться как триумф над водной стихией. В заиливании, обмелении, прекращении циркуляции воды в Лагуне стали усматривать смертельную опасность. Теперь каждый последующий шаг в освоении земли подлежит суровому контролю и кадастровым ограничениям. Политика в области окружающей среды становится инструментом венецианской власти, не в последнюю очередь по отношению к поселившимся в Лагуне церковным орденам. Остров Торчелло, который со своими двумя древними церквями среди болот и камыша кажется современному туристу олицетворением красоты всей Лагуны, в глазах венецианцев служит страшным предостережением: заболачивание не только лишило судоходства некогда цветущий торговый город, но и «одарило» его малярией, видимо, также как много раньше произошло с могущественной Аквилеей [123]. Венецианцы начинают ценить береговое положение и морскую воду. С XV века и даже раньше основным мотивом городской политики стал панический страх перед любыми проявлениями заболачивания. «В согласии с пословицей “свая делает болото” (Palo fa paluo), которая означает, что одной сваи достаточно, чтобы превратить часть Лагуны в болото, Светлейшая Республика Венеция объявила войну сваям и постройкам на сваях и не останавливалась ни перед чем… На мостки, причалы, сваи, дома-лодки градом посыпались денежные штрафы» (см. примеч. 78).
Из всех возможных аргументов в пользу сохранения Лагуны самым весомым был военный: для Венеции Лагуна была стеной, оборонительным сооружением. Венеция была единственным крупным городом в средневековой Европе, который с XII века, то есть с момента разрушения венецианских крепостных сооружений, не имел городской стены. Говорили, что Венеция гораздо лучше защищена своей Лагуной от нападений, чем другие города – их стенами. И вправду: венецианцам достаточно было всего лишь вытащить сваи на скрытых под водой судоходных путях, чтобы в Лагуну не могло попасть ни одно чужеземное судно. Экологические интересы легче всего отстаивать тогда, когда они совпадают с интересами военными. В середине XV века и позже венецианцы изменили течение Бренты, Пьяве и еще шести других рек, грозивших заиливанием, направив их русла вокруг Лагуны. Согласно Браунштейну и Делору, это были «самые гигантские» работы по «корректировке ландшафта» в истории старой Европы. В 1488 году во Дворце дожей проект переноса русла Бренты обосновали острейшими формулировками: абсолютно очевидно, что эта река угрожает Венеции «полным разрушением и опустошением» (см. примеч. 79).
После 1500 года гидростроительные усилия Светлейшей Республики резко набирают обороты. В ситуации, когда гегемония Венеции на суше и на море оказалась под угрозой, ее жители с удвоенной энергией возвращаются к тщательному и заботливому обустройству своего небольшого мира. В 1501 году все полномочия, касающиеся воды, были переданы новообразованному Управлению водных ресурсов ( Magistrato all'Aqua ) и трем «водяным мудрецам» ( savi all'acque ). В обосновании на первом месте стояла забота о здоровье ( salubritas ) города. Вскоре после этого, в 1505 году, к ним была добавлена Августейшая коллегия водных ресурсов ( Collegio Solenne all'Aque ), «своего рода суперкомиссия», вобравшая в себя высшие авторитеты, в которую входили дож, три председателя Совета десяти [124]и другие высшие лица Дворца дожей. В обосновании говорилось о важности вопросов, связанных с водой, подчеркивалось, что от них зависит единство всего государства и – с особой остротой – что здесь требуется срочность. Торопливость, в высшей степени непривычная для того времени! Очевидно, Августейшая коллегия оказалась недостаточно поворотливой, ив 1531 году к «трем мудрецам» в качестве исполнительной власти были приставлены три «исполнителя по водным ресурсам» ( esecutori all'Acque ). Участвовавший во всем этом Совет десяти, все более становившийся механизмом координации власти, оправдывал свои особые полномочия необходимостью срочного реагирования в кризисных ситуациях (см. примеч. 79).
В Венеции, как и в Китае, вода и власть были тесно связаны. Связь эта и здесь и там со временем усиливалась, прежде всего под воздействием кризисов. Венеция с ее громкой репутацией первой европейской республики выглядит убедительным аргументом против теории Витфогеля о деспотической тенденции гидростроительства. Сам Витфогель считал Венецию «негидравлическим» государственным образованием. Однако венецианская система имела и тоталитарную сторону, дававшую пищу для темных легенд. Снабжение питьевой водой тем не менее было децентрализовано: более 6 тыс. цистерн ( pozzi ) принадлежали в основном частным лицам или подлежали контролю гильдий и городских кварталов. Хватало их не всегда. Окруженные водой венецианцы «несколько раз за свою историю были близки к смерти от жажды» и на лодках доставляли речную воду из Бренты (см. примеч. 80).
Климат в Лагуне нельзя назвать здоровым. Но Венеция была совсем не склонна фаталистически принимать эту немилость природы. В своей санитарной политике она, как и другие города Северной Италии, намного опередила большую часть Европы. Современная «политика в области окружающей среды» – это в значительной степени политика в области здравоохранения, и такая конфигурация уходит далеко в историю. Для Венеции это было совершенно естественным – вся ее водная политика, будь то осушение болот или ограничение притока пресных рек в Лагуну, определялась профилактикой малярии. Даже на эпидемии чумы, самые страшные катастрофы в истории Венеции, город реагировал мерами экологического характера. Без современной микробиологии, вопреки господствовавшему тогда в медицине учению о соках [125], венецианские власти, да и многие «простые» люди, понимали, что чума – заразная болезнь. Именно в Венеции с ее множеством островков возникла концепция изоляции жертв эпидемий: слово «изоляция» в буквальном смысле означает вынужденное переселение на острова. Венецианцы вновь сумели выгодно использовать островное положение своего города.
С XV века, когда работы по мелиорации ( bonifica ) в Лагуне были остановлены, гораздо более широкое поле действий для них открыла Терраферма ( Terraferma ) – материковые земли Венецианской республики. Здесь также было много болот, и на первом месте стояло осушение. При этом если на местах и преобладали частные инициативы, то основной предпосылкой для них были государственные задачи регуляции рек и строительства каналов. Первый шаг был сделан в 1436 году изданием приказа об осушении провинции Тревизо. В обосновании наряду с экономикой важное место отводилось здравоохранению: «процент смертности за этот год вновь оказался очень высок вследствие того, что людям и животным приходилось пить воду из мутных и илистых канав». Лишь в XVI веке с усилением участия государства осушение Террафермы заметно продвинулось. Старания были не напрасны: в конце XVI века Венецианская республика взяла на себя контроль над всеми водами Террафермы, объявив их общественным достоянием (см. примеч. 81).
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: